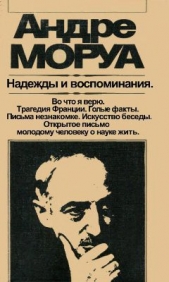Жизнь, подаренная дважды

Жизнь, подаренная дважды читать книгу онлайн
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А последний раз видел я Шукшина вот как: позвонила Лидия Николаевна Федосеева, позвала нас с женой на просмотр «Калины красной». Ее еще только должны были принимать. Шукшин лежал в больнице, у него обострилась язва: конец фильма — это и силам конец, тут сразу все хвори набрасываются.
Не помню, чтобы какая-нибудь картина тех лет поразила меня так, как поразила «Калина красная». Вышли мы в коридор, сероватый после яркого света, зажегшегося в зале. А в коридоре у дверей — Василий Шукшин: убежал из больницы, стоит, ждет. Лицо нездоровое, похудевшее, щеки запали, жесткие, словно небритые, с тенями от скул: свет был верхний. Сергей Залыгин первым увидел его, обнялись, и у всех у нас слезы на глазах.
Удивительный это фильм. Многое можно в нем опровергнуть или, наоборот, объяснить, что и почему хорошо. Не объяснишь только, почему он так очищает душу. Да и нужно ли объяснять? Подлинное искусство — это всегда чудо. Потому и необъяснимо, неповторимо оно. Не только окружающую жизнь, но и себя понять, себе что-то важное объяснить хотел человек; без этого не бывает искусства. Со стороны тут вовсе не видней. Свое открытие мира художник делает сам, он один.
О фильме «Калина красная» писали много, обсуждали во многих аудиториях, словно ждали этот фильм, дождались. В одном таком обсуждении в журнале «Вопросы литературы» участвовал и я. Искусство, как жизнь, каждый понимает по-своему, если вообще способен понять. А есть люди, от природы лишенные слуха, самую простую песенку спеть не могут, но тем уверенней судят и пишут о музыке.
Вот из Бунина, из его статьи «Думая о Пушкине»: «После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад, и долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из этой напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствую бесконечное счастье от принадлежности к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней…»
И — далее, в связи с вопросом: «Каково было вообще его воздействие на вас?» — Бунин пишет: «Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни… Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что вижу: «Мороз и солнце, день чудесный…»»
«Да как же учесть, как рассказать» обо всем, что дает нам искусство, что вбираем мы в себя большей частью даже неосознанно, когда читаем Пушкина, Толстого, сказки Андерсена? Какова доля искусства в том, что мы научились видеть и понимать мир, любить свою родину? И нужно ли, можно ли сводить воздействие искусства к чему-либо одному, полезному и практически годному?
Неосмысленными глазами, в которых мир перевернут, мы еще не видим своей матери, но уже согреты ее теплом. Не уча, а только любя и радуясь, она закладывает в нас человеческое. Вот так и искусство, которое «со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни…»
Однажды в ВТО, то есть в зале Всероссийского театрального общества, был вечер, и в числе выступавших Солоухин читал свои стихи, посвященные защите природы, и то ли в стихах своих белых, то ли в речи известил слушателей с большой долей самоутверждения, что он за свою жизнь никого не убил. И раздались аплодисменты. По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению, мне надо было почувствовать себя неловко: все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и берут оружие в руки, чтобы убивать. И я подумал, что если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного возраста, сделал бы такое гордое заявление в прозе или в стихах да еще с трибуны, это бы совсем по-другому встретили. Во время Отечественной войны считалось, что для мужчины, для человека достойное дело — не в тылу быть, а на фронте. Просто зал в своем гуманистическом порыве спутал времена.
Но можно ли искусство отделить от времени? В высших своих проявлениях оно становится вечным, но временным — никогда. И в искусстве всегда больше того, что сказано.
Наверное, дней десять я был под сильным впечатлением фильма Василия Шукшина и вряд ли вообще его забуду. И хотелось мне, чтобы и другие испытали ту же радость, которую дала мне «Калина красная», хотя, казалось бы, слово «радость» тут неуместно, фильм трагический.
После обсуждения «Калины красной» в журнале «Вопросы литературы» я неожиданно стал получать письма. Меня строго упрекали: вот, мол, мы читаем ваши книги, а вы кого же защищаете? Вора? Что, у нашего кинематографа других героев нет? Один мой читатель прислал пространное письмо, несколько строк оттуда я приведу: «Такое совпадение: перечитывал «Июль 41 года», а тут принесли «Вопросы литературы»… О «Калине красной» мне рассказывали москвичи — их здесь много. Мужчины говорили весьма общо, женщины определенно: фильм отвратительный. Любопытно, что первой такую оценку дала ученица 9-го класса, видевшая по телевизору отрывки фильма». Автор письма не видел фильма, но высказывается определенно: «Еще раз убедился, что самые не знающие преступного мира люди — писатели, очеркисты и… прокуроры, следователи, доктора юридических наук… пишущие о нем со слезою гуманности… Это даже не шлак, а человеческая популяция неизмеримо худшая. Прав Чехов — люди эти не интересны, как их преступления. Трагедии здесь нет».
Вот так, обо всех — разом. Валяй всех! И пишет это, по всей видимости, начитанный человек, приводит десятки имен: и Диккенса, и Глеба Успенского, и почему-то Петрова-Водкина. Он и о Шукшине заботится: «Что Шукшин талантлив — это известно по его игре и рассказам… А если ему настойчиво говорить, что он художник, произведения которого заставляют «испытать радость», что он затронул «мировую тему», то у него закружится голова».
Но уже ничья забота в то время ему не была нужна: Василий Шукшин начал свой путь, отдельный от тех, кто остался жить. Еще не пускали в Дом кино, а на улице, сдерживаемая милицией, выстроилась долгая очередь ко гробу; за несколько часов, что были отведены, не все успели пройти.
В огромном фойе напротив парадной лестницы, по которой столько раз в своей жизни он подымался, был установлен гроб. Привезли мать. Поразительно он был похож на нее лицом.
Случилось так, что заранее приготовленные микрофоны забыли выключить. И когда мать запричитала над ним в голос и отдалось во всех динамиках, стало жутко. Она все спрашивала: «Где у тебя болит, сыночек? Где болит, скажи, где?..»
Потом детей привели за руки — двух девочек. В одинаковых курточках с откинутыми капюшонами, они бойко шли по лестнице вверх. Уводили их веселых. Не знаю, так ли это, но говорили, что они не поняли, куда их привели, зачем? Они уже снимались в фильме вместе с отцом, возможно, думали, что это — съемка.
После смерти Александра Трифоновича Твардовского ничья смерть не подействовала на меня так сильно, как смерть Василия Шукшина. Мне позвонили из журнала «Искусство кино», попросили написать некролог, и я написал, что думал тогда и чувствовал:
«Василий Макарович Шукшин умер в сорок пять лет, сделав лишь часть того, что он хотел и мог. Но сделанного им хватило бы на несколько жизней.
Уже не сыграть ему Степана Разина. Многие годы он готовился к этой работе, носил в себе мечту. Что уж теперь гадать, но я убежден, если бы он поставил этот свой фильм, то как Чапаев стал для нас таким, каким увидели мы Бабочкина с экрана, так же точно и живой Степан Разин для миллионов и миллионов стал бы неотделим от Шукшина. Он словно рожден был для этого подвига.
Могучий талант жил в этом человеке. И могучая страсть.
Написанные им сценарии могли бы сделать славным имя кинодраматурга, который останется в истории кинематографа.