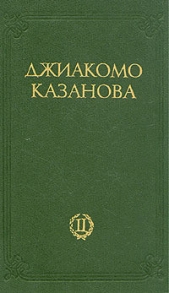История моей жизни

История моей жизни читать книгу онлайн
«История моей жизни» Казановы — культурный памятник исторической и художественной ценности. Это замечательное литературное творение, несомненно, более захватывающее и непредсказуемое, чем любой французский роман XVIII века.
«С тех пор во всем мире ни поэт, ни философ не создали романа более занимательного, чем его жизнь, ни образа более фантастичного», — утверждал Стефан Цвейг, посвятивший Казанове целое эссе.
«Французы ценят Казанову даже выше Лесажа, — напоминал Достоевский. — Так ярко, так образно рисует характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ!».
«Мемуары» Казановы высоко ценил Г.Гейне, им увлекались в России в начале XX века (А.Блок, А.Ахматова, М.Цветаева).
Составление, вступительная статья, комментарии А.Ф.Строева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что же до народа, то он повсюду одинаков: дайте крючнику шесть франков и велите кричать Да здравствует король , он вам доставит сие удовольствие, но за три ливра минутою позже закричит Да умрет король . Поставьте во главе народа зачинщика, и он в один день разнесет мраморную крепость. У него нет ни законов, ни убеждений, ни веры, божества его — хлеб, вино и безделье, свободу он полагает безнаказанностью, аристократию — тигром, а демагога — пастырем, нежно любящим свое стадо. Иными словами, народ — это необъятных размеров животное, оно не рассуждает. Парижские тюрьмы набиты узниками, которые все — представители восставшего народа. Скажите им: если вы согласитесь поднять на воздух залу Собрания, я открою вам ворота тюрьмы, — они пойдут с радостью. Всякий народ — это сборище палачей. Французское духовенство, зная это и рассчитывая лишь на себя, стремится внушить ему религиозное рвение, каковое, быть может, пересилит тягу к свободе: свобода есть для народа лишь некая отвлеченность, для материальных голов недоступная.
Трудно, впрочем, поверить, чтобы нашелся в Национальном собрании хотя бы один его член, движимый единственно заботою о благе отечества. Душа всякого одержима лишь собственным его интересом, и ни один, будь он королем, не последовал бы примеру Людовика XV.
Герцог Маталонский познакомил меня с доном Маркантуаном и доном Джованни-Баттистой Боргезе, римскими князьями, приехавшими в Париж поразвлечься и жившими весьма скромно. Я заметил, что, когда этих римских князей представляли при французском дворе, титуловали их маркизами. По тем же причинам не желали титуловать князьями, princes, русских князей: представляя, их так и называли «князь». Им было все равно, ибо «князь» значит по-русски то же, что «prince» по-французски. При французском дворе к титулам всегда относились весьма щепетильно: чтобы заметить это, достаточно один раз почитать газету. Там скупятся на титул «Monsieur», милостивый государь, каковой при этом обычен во всех иных местах, и всякому, у кого нет титула, говорят «sieur», господин. Я приметил, что король ни одного епископа своего не звал епископом, но только аббатом. Он также нарочито не желал знаться ни с одним из сеньоров в своем королевстве, чье имя не значилось бы в списке придворных. Однако ж надменность Людовика XV происходила не от натуры его, но была привита ему воспитанием. Если один из посланников кого-то ему представлял, представленный возвращался домой в уверенности, что король Франции видел его, вот и все. То был учтивейший из французов, особливо с дамами и, прилюдно, со своими возлюбленными; всякий, кто осмеливался выказать им хотя б малейшее непочтение, попадал у него в немилость; и более всякого другого был он наделен королевской добродетелью — умением верно хранить тайну: уверенность, что знает он нечто никому не известное, доставляла ему радость. Малый тому пример — г-н д’Эон, что был женщиною. Король единственный с самого начала знал, что это женщина, и вся распря фальшивого кавалера с канцелярией Иностранных дел была настоящей комедией, которую король ради забавы позволил разыграть до конца.
Людовик XV был велик во всем и не имел бы вовсе изъянов, когда бы льстецы не принудили его их приобрести. Как мог он знать, что поступает дурно, если все в один голос твердили, что он лучший из королей? В то время княгиня д’Ардоре разродилась мальчиком. Супруг ее, неаполитанский посланник, пожелал, чтобы Людовик XV был крестным отцом ребенка, и король с охотою согласился. Крестнику своему он поднес в подарок полк. Но роженица полка не захотела, ибо не любила ничего военного. Г-н маршал Ришелье говорил мне, что король никогда так не смеялся, как будучи извещен об этом отказе.
У герцогини де Фюльви познакомился я с девицею Госсен, которую все звали Лолоттой; она была любовницей милорда Олбемарла, английского посланника, человека умного, весьма благородного и щедрого: однажды ночью гулял он с Лолоттой и, слыша, как восхваляет она красоту звезд на небе, сожалел, что не может их ей подарить. Когда б сей лорд оставался министром во Франции и во время разрыва меж его нацией и нацией французской, он бы всех примирил, и не разразилась бы злосчастная война, стоившая Франции всей Канады. Нет никакого сомнения, что доброе согласие меж двумя нациями зависит чаще всего от министров, которых держат они при дворе друг у друга в то время, когда ссорятся либо когда грозит им опасность поссориться.
Что же до возлюбленной его, то все, кто ее знал, были единодушны в своих оценках. Не было в ней черты, каковая бы делала ее недостойной выйти за него замуж; все без изъятия именитые дома Франции принимали ее в свое общество и без титула миледи Олбемарл, и соседство ее не оскорбляло добродетели ни одной дамы — все знали, что иного звания, кроме возлюбленной милорда, у нее никогда не было. Тринадцати лет попала она из рук матери в милордовы, и поведение ее всегда было безупречно; детей ее милорд признал своими. Умерла она графиней д’Эрувиль. В своем месте я еще вернусь к ней.
Тогда же познакомился я у г-на Мочениго, венецианского посланника, с одной венецианкой, вдовой английского рыцаря Уинна, что возвращалась с детьми из Лондона. Ездила она туда справиться о своем приданом и о наследстве покойного супруга, каковое могло перейти к ее детям лишь в том случае, если примут они англиканскую веру. Проделав все это, возвращалась она в Венецию, довольная своим путешествием. С дамою этой ехала и ее старшая дочь, которой было всего двенадцать лет; однако ж нрав ее обрисовывался уже в совершенстве на красивом личике. Нынче она вдова покойного графа фон Розенберга, умершего в Венеции посланником царствующей Императрицы Марии-Терезии, и живет в Венеции; на родине блистает она благоразумием, умом, величайшей обходительностью и иными светскими добродетелями. Все говорят, что единственный ее недостаток — то, что она небогата. Верно, однако никто, кроме нее, не вправе сожалеть об этом: лишь она может ощутить, как велик сей изъян, когда мешает он ей проявить щедрость.
В то время случилась у меня одна тяжба с французским правосудием.
ГЛАВА Х
Я имею дело с парижским правосудием. Девица Везиан
Младшая дочь хозяйки моей, г-жи Кенсон, частенько являлась без зову ко мне в комнату, и я, заметив, что она любит меня, рассудил, что странно мне было бы разыгрывать перед нею жестокосердие; к тому же она была не без достоинств, имела прелестный голос, читала все модные книжки и судила обо всем вкривь и, вкось с весьма привлекательною живостью. Возраста она была благовонного — лет пятнадцати-шестнадцати.
В первые четыре или пять месяцев не было промеж нами ничего, одно ребячество, но однажды случилось, что, вернувшись запоздно домой, застал я ее уснувшей на моей постели. Мне сделалось любопытно, проснется она или нет, я сам разделся, улегся — а остальное понятно и без слов. На рассвете она спустилась вниз и улеглась в свою постель. Звали ее Мими. Двумя или тремя часами позже случай привел ко мне модную торговку с девицею, просить меня к завтраку. Девица была недурна, но я уже изрядно потрудился с Мими и, поболтав с ними час, отправил их восвояси. Они как раз уходили, и тут входит г-жа Кенсон с Мими, убрать мою постель. Я сажусь писать и слышу, как она говорит:
— Ах они прохвостки!
— На кого вы сердитесь, сударыня?
— Невелика загадка: простыни-то испорчены!
— Мне очень жаль; простите; перемените их и довольно об этом.
— Как это довольно? Пусть они только вернутся! Она спускается за другими простынями, Мими остается, я пеняю ей за неосторожность, она смеется и говорит, что, хвала небу, все вышло совсем невинно. С того дня Мими более не стеснялась: она приходила ко мне ночью, когда хотела, а я без стеснения отсылал ее, когда бывал не в духе, так что жили мы в мире и согласии. Союз наш продолжался четыре месяца, когда Мими объявила мне, что беременна; я отвечал, что не знаю, как ей помочь.
— Надобно подумать о всяких вещах.