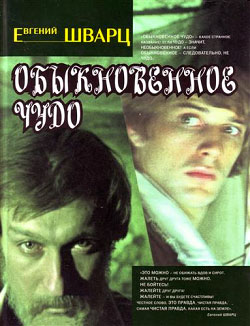Мы знали Евгения Шварца
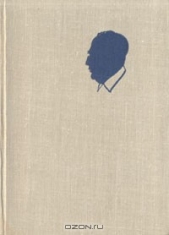
Мы знали Евгения Шварца читать книгу онлайн
Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.
Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.
Он писал и для взрослых, и для детей. Однако во всех случаях, когда он обращался к детям, к нему внимательно прислушивались взрослые. В свою очередь, все, что он писал для взрослых, оказывалось, несмотря на свою глубину, доступным детскому пониманию. Все его большие и малые психологические открытия были рождены его никогда не старевшим интересом к людям. Ом был одним из самых жизнелюбивых писателей нашего времени. Он любил дерзкий человеческий труд, радость отдыха, могучую силу человеческого общения со всеми его испытаниями и превратностями. Вместе с тем ни о ком другом нельзя сказать с такой же уверенностью, как о нем, что он знал цену трудностям жизни, понимал, как нелегка борьба со всеми и всяческими мерзостями, узаконенными собственническим миром; ему было хорошо известно, как упорен и живуч человек — собственник, как изворотлив лжец и как отвратителен злобный и бесшабашный устроитель собственного благополучия.
Истинное значение созданного Евгением Шварцем, цельность и неиссякающая сила его творческого наследия стали понятны, как это случается нередко, только после того, как его самого не стало. И вместе с этим возник естественный и непрерывно усиливающийся интерес к личности художника, который так скромно и по — человечески просто прожил свою творческую жизнь. Интерес к личности писателя всегда таков, каков сам писатель.
Интерес к Евгению Шварцу далек от поверхностной и равнодушной любознательности, порождаемой столь же поверхностными и столь же равнодушными писательскими репутациями. Любовь к Шварцу — писателю стала также любовью к нему как к человеку, на редкость живому, открытому для всех.
Любовью к нему, как к писателю и человеку, продиктована эта книга, авторами которой выступают его друзья, сверстники и литературные спутники, режиссеры, ставившие его пьесы и сценарии, актеры, воплощавшие созданные им образы. Каждый из авторов старается восстановить живые черты ушедшего художника и помочь сохранению в памяти читателей и зрителей его живого и сияющего облика. Сделать это не просто, но хочется думать, что их усилия не окажутся напрасными.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шел 1937 год. Меня исключили из Союза писателей за связь с Леопольдом Авербахом, которого только что объявили «врагом народа». Не все старые друзья сохранили тогда свое расположение ко мне, но Герман и Шварц общались со мной постоянно. Более того, я долго жил на даче у Германа. А неподалеку снимали комнату Шварцы.
Мы встречались почти каждый вечер. Либо Шварцы приходили к нам, либо мы наведывались к Шварцам.
Теплым июньским вечером, прогуливаясь по поселку, мы пришли на станцию, где обычно вывешивались свежие ленинградские газеты. В одной из них была напечатана статья, где снова я встретил свое имя в связи с тем же «делом Авербаха».
Пробежав статью, Евгений Львович на мгновение помрачнел и внутренне весь напрягся, но тут же овладел собой.
— Обратите внимание на нашего Леву, — сказал он тем особым комически — серьезным тоном, каким умел говорить, кажется, он один. — Ему поразительно идет быть исключенным из Союза писателей. Пожалуйста, — обратился он ко мне, — когда тебя восстановят, постарайся выглядеть по крайней мере не хуже.
Все засмеялись, хотя не могли не понимать, что думать о моем восстановлении было, мягко говоря, преждевременно. Я тоже отлично понимал это, но — странное дело — только что прочитанная статья уже не казалась мне такой угрожающе — страшной.
Когда меня действительно восстановили в Союзе писателей — это случилось больше года спустя — и я встретился с Евгением Львовичем впервые по восстановлении, он подозрительно посмотрел на меня и с искренне соболезнующим видом сказал:
— Ты сегодня плохо выглядишь. Глаза его смеялись.
На этот раз я, слава богу, понял, что он шутит. Я чувствовал себя совершенно здоровым.
С. Цимбал
Я познакомился с Шварцем очень давно, почти сорок лет назад. Знакомство это было во многих отношениях неравным, и, должно быть, именно поэтому мне так хорошо запомни- лась на редкость непринужденная манера, в которой взрослый писатель заговорил с едва вступавшим в совершеннолетие первокурсником. Мне шел восемнадцатый год, а Евгению Львовичу двадцать девятый. И вот, несмотря на столь очевидное неравенство, он сразу же обратился ко мне так, словно давным — давно знал меня и будто у него были вполне основательные причины прислушиваться ко мне.
— Помните, у Гейне говорится, что в каждой пьесе Шекспира действует свой климат; в одной идет снег, а в другой такая духотища, что дышать невозможно.
Я, разумеется, ничего такого не помнил, но был до крайности польщен тем, что мой собеседник считает меня человеком осведомленным и принимает, так сказать, всерьез. Только много лет спустя я понял, что он намеренно и сознательно пропускал целую стадию, через которую проходят, как правило, новые знакомства, для того чтобы как можно скорее достичь поры, когда близость с людьми становится не только интересной, но и плодотворной. Ему нужны были любые знакомства, и в любых он находил пользу для себя.
Мгновенные сближения Шварца с людьми всегда были непосредственны, искренни и по сути своей серьезны. Его внешняя манера держаться далеко не во всем соответствовала его подлинной натуре. Он был нетороплив, насмешливо важен, казалось, что изо всех сил старается придать самому себе побольше весу. Однако поразительное, сохраненное им до последних дней жизни умение отрешаться от всего, что принято именовать житейской суетой, вовсе не следовало принимать за чистую монету.
Надо было очень хорошо знать его, чтобы правильно понять и оценить его подчеркнутую сдержанность и чуть абстрактную, почти всегда неожиданную любознательность.
Он вторгался в самые различные области знания по причинам, которые никто не мог бы объяснить сколько‑нибудь точно. На какое‑то время он становился энтомологом или историком Древней Руси, внезапно погружался в тайны павловской физиологии или вдруг оказывался придирчивым и хорошо разбирающимся в предмете лингвистом. За одно я могу поручиться: все эти интересы никогда не были у него прикладными и возникали вне всякой видимой связи с тем, что он в данный момент делал. Накапливавшиеся им знания нужны были не его героям, а ему самому.
Он вбирал в себя впечатления, не давая отдыхать собственной памяти, неизменно проявлял удивительную внутреннюю подвижность, способность вкладывать себя всего в самый процесс восприятия жизни. Он никогда не уставал от этого процесса — жизнь, люди, звери, вещи не могли быть безразличны ему даже тогда, когда лично его существования не затрагивали. Вещи в его понимании не были ни в какой мере бездушны и безответны. Не собираясь шутить, он утверждал, что неодушевленные предметы ехидно подсматривают за ним, провожают, если он уходит из дому, пристальным взглядом, усмехаются, если он что‑нибудь делает не так.
В этом не было и тени умышленного, показного чудачества или тайного кокетства. Все, что только открывалось ему в окружающем мире доброго и злого, прекрасного и уродливого, близкого и чужого, уподоблялось им человеческому, имело свой естественный и неоспоримый человеческий смысл. Однажды в Комарове, спускаясь к заливу и проходя мимо косо растущего (по — видимому, из‑за оползня) дерева, он сказал, не поворачивая головы, с величайшим презрением: «Холуй». Поза человека, походка, жест, движение головы были в его представлении «откровенностью природы», характеризовавшей свои создания со всем возможным прямодушием.
Я не хочу бросать тень на его эстетическую образованность — сомневаться в ней не приходилось, — но мне кажется, что теоретические исследования по искусству не были его любимым чтением. Объясняется это, вероятно, тем, что все психологические и умственные явления существовали для него только в той степени, в какой могли быть выражены в пластической форме. Он буквально проглатывал книги, в которых прошлое воссоздавалось в конкретном, материально ощутимом виде, так, что его можно было коснуться рукой. Этому требованию он оставался верен во всей своей писательской работе. Жизнь в его сказках была слышима и зрима, звенела, плескалась, скрипела или шелестела. Она была колючей или шершавой, прозрачной или душной, ровной или перекошенной.
Как‑то я показал ему попавшуюся мне в руки нелепую книжонку «Джентльмен, или Настольная книга изящного мужчины». Он взял ее в руки и, перелистывая страницу за страницей, громко, раскатисто хохотал и что‑то проговаривал губами. Тут еще не было ничего удивительного — книжка эта способна была развеселить каждого. Смехотворны были и самый предмет изложения, и многозначительность, даже философичность языка, каким она была написана. Но Шварц, листая ее, проигрывал про себя весь процесс превращения невоспитанного и неуклюжего простака в заправского «изящного мужчину». Он чуть щурил глаза, почти закрывал их, потом задирал высоко голову, опускал ее и снова начинал хохотать.
Но больше всего — и совсем по — другому — любил Евгений Львович читать книги по орнитологии и энтомологии. Его привлекали не популярные и поверхностные пересказы, а серьезные научные исследования, из которых он умудрился вычитать множество поразительных новостей, касающихся повседневного быта птиц и насекомых, осенних перелетов журавлей или героических горестных зимовок синиц. Все, что он узнавал о необыкновенных путешествиях угрей или о «боевых порядках» перелетных птиц, вызывало у него такую искреннюю, такую ненаигранную гордость, что можно было подумать, будто он имеет к этому делу самое прямое отношение.
— А знаешь ли ты, — как‑то спросил он меня со всей строгостью, — что муравьи до сих пор не могут избавиться от матриархата?
Трудно сказать, что именно имел он в виду под этим «до сих пор», но получалось так, что в словах его звучал скрытый упрек. Дескать, мы, люди, давным — давно покончили с этим недопустимым явлением, а они все еще не могут справиться с ним.
Он надменно смотрит на своего униженного собеседника, не способного предложить муравьям сколько‑нибудь реальный выход из положения. Он весь светится от чувства собственного превосходства и так счастлив, что можно предположить, будто муравьиная косность приносит ему личное удовлетворение. Ничего не поделаешь, так уж он устроен — все интересное, что он узнает, все самые поразительные чудеса мира и все разгадки жизни оказываются в конце — концов подтверждением его личной правоты.