Антология публикаций в журнале "Зеркало" 1999-2012 (СИ)
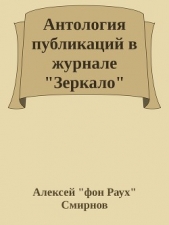
Антология публикаций в журнале "Зеркало" 1999-2012 (СИ) читать книгу онлайн
В конце 20-го века легче писать о политике, об истреблении животных и растений, о половых извращениях затравленных и загнанных в бетонные норки людишек, чем об искусстве. Любое современное урбанистическое государство стало враждебным подлинному искусству, а точнее, тому искусству, к которому привыкли мы, люди иудо-христианской цивилизации, прожившие большую часть последнего века второго тысячелетия от Рождества Христова...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я часто ездил с Соловьевым в Верхнее Поволжье на этюды, и он мне проговаривался спьяну, как эти доносчики объединялись в офицерские пятерки и работали сообща, уничтожая красные кадры. Не знаю, не знаю, как к этому относиться, по-моему, лучше всего было лечь в психиатричку, мочиться в постель и прикидываться сумасшедшим. Соловьев говорил, что эти пятерки были связаны тем, что у тех, кто предавал, уничтожали их жен и детей, поэтому провалов не было.
На этюдах Соловьев хвалил меня за пастозную живопись. Писать светло, как Иогансон, Соловьев не умел, он все несколько темнил под стариков, а вот “Допрос коммунистов” и “На старом уральском заводе” Соловьев по старой колчаковской службе и дружбе сколотил Иогансону, умело прорисовав фигуры. В мастерской Иогансона никаких стуящих картин не было, портретов тоже, только пестрые букеты и салюты на Красной площади – все цветно, красиво, французисто и ярко. Рисовать фигуры Борис Владимирович фактически не умел. Иогансон по-своему отблагодарил Соловьева, выхлопотав ему мастерскую на Масловке, где тот и жил, не имея квартиры и передав комнатенку на Трубной своему товарищу.
Но Соловьев напакостил и на Масловке, отправив на расстрел нескольких убежденных коммунистов. Все советские художники его люто ненавидели и, шипя, называли белогвардейцем – это было тогда высшее ругательство и оскорбление. Сортир на Масловке был общий, и Соловьев туда ходить не мог: когда он закрывался в кабинке, художники обливали его из банки мочой. Кухня тоже была общей, но готовить там Нина Константиновна тоже не могла: жены художников подбрасывали им в суп дохлых мышей и толченое стекло. Соловьевы готовили пищу в мастерской на керосинке и там же приспособили рундук с сиденьем для отправления естественных надобностей.
Когда Соловьев проходил по масловскому коридору, его поначалу тоже норовили облить какими-нибудь помоями, но он быстро отучил соседей делать это своим особым ударом по макушке. А одного художника, писавшего исключительно доярок и дояров, он, предварительно выбив дверь его мастерской, швырнул так, что тот пролетел до наружной стены, сокрушая мольберты и холсты, и так приложился об стену, что неделю отлеживался после удара, слегка почернев. А один раз жена другого советского художника уколола Соловьева шилом в зад, за что Нина Константиновна, подкараулив, выдрала той волосы и до крови искусала плечи, о чем потом с гордостью рассказывала.
Со временем этот террор прекратился, но когда Соловьев проходил тяжелым шагом по коридору, двери многих мастерских приоткрывались и оттуда раздавалось шипение: “Предатель, белогвардеец!” А возьми Деникин Москву или перевали Колчак через Волгу, все было бы по-другому и был бы Соловьев героем. Впрочем, героем в русской революции никто стать не мог: в случае победы и белым бы пришлось отрывать рвы для расстрелянных, но, конечно, не в таких масштабах, как красным, превратившим убийство русских людей в спортивное развлечение.
Живя в маленьком номере борделя на Трубной, Соловьев вначале работал в “Гудке” и других периодических изданиях, где рисовал пером портреты всяких передовиков, и перезнакомился и с Олешей, и с Булгаковым, и с Катаевым, но языка общего с ними не нашел. Он-то был матерый белогвардеец, каратель и боевой офицер, а они, с его точки зрения, мелкая литературная сволочь, или околоармейский обозник, или лекарь, как Булгаков. Почему-то из них всех он всерьез полюбил только сына раввина Ильфа и радовался на его юмор и словосочетания.
Потом Соловьев стал преподавать в каких-то студиях и во вновь создаваемых большевиками учительских институтах. И в этом занятии он себя и нашел. В одном из таких учебных заведений он познакомился с моим тогда еще молодым папашей, полюбил его, звал Глебушкой и всячески опекал. Узнав, что он женат на дочери казачьего генерал-лейтенанта Абрамова, он полюбил всю нашу семью, целовал моей старухе бабке ручку и стал учить меня, несмысленыша, уму-разуму. Но я у него не всему научился, но почитал его долго и мысленно почитаю по сей день как крупного, во всех смыслах опасного зверя.
Он внутренне не разоружился, никому ничего не простил, хотя и служил красным, и поэтому был опасен во всех смыслах – физически, политически и морально. Затруби трубы – и он тут же выступил бы в поход против красного Кремля, они его духовно не сломали, а всячески осволочили. Он всегда, не говоря прямо, давал понять своим ученикам и близким людям, что власть советская – чисто воровская и бандитская по своей сути. Наверное, в вермахте и в СС тоже служили скрытые враги Гитлера и его рейха. Меня один раз Соловьев сильно стыдил за то, что я посмел назвать Николая I Николаем Палкиным: мол, как я посмел так отозваться о священной особе государя Николая Павловича? А я и сейчас считаю его тупым и подлым правителем, фактически подготовившим гибель России и династии Романовых.
По-видимому, Соловьев был лубянским ангелом-хранителем нашей семьи. Он говорил моим отцу и матери: “Пока я жив, вас не арестуют”. Соловьев успешно спаивал моего папашу, заманивая его в Савой, где у него был столик и знакомый официант. Когда мы ездили на этюды в Верхнее Поволжье в бывшее имение князя Гагарина в Конаково, Соловьев, увидев, что я с отрочества могу изрядно выпить, не дурея, спаивал и меня, своего молодого приспешника, помогавшего ему добраться до кровати, если он перепивал. В глухих деревнях Соловьев постоянно проваливался в ветхие крестьянские сортиры и давил задом хлипкие стулья и табуреты. Мы постоянно платили хозяевам за разрушенные отхожие места и мебель. Обычно я приносил какую-нибудь посудину побольше, и мы сколачивали из досок сиденье, чтобы он мог гадить дома. Один раз я даже раздобыл где-то бетонную ступу, которую мы днем закрывали фанерой.Даже в деревнях Соловьев ходил в бабочке и подтяжках, которых крестьяне до этого ни на ком не видели. Весил он в старости не менее 150 килограммов, но с дамами был очень подвижен и даже мог потанцевать при случае. Днем он, самозабвенно пыхтя и хрюкая, как Черчилль, писал этюды, а по вечерам, которые он любил проводить при свечах, воткнутых в бутылки, рассказывал мне о войне в Сибири и на Волге. У него было несомненное раздвоение личности и алкогольный психоз, и утром он мог не помнить, что говорил вечером. Белую контрразведку он не любил и предпочитал пленных красных убивать сразу, не мучая.
Дружил Соловьев и с искусствоведом Машковцевым, другом президента сталинской Академии художеств Александром Герасимовым – главным врагом авангардных течений и всяких левых новшеств. Машковцев был идеологом Герасимова, сильно на него влиявшим. Старший брат Машковцева, белый генерал, воевал с красными. Мошковцев был уже тогда в годах, и злоязычный Соловьев называл его Шамковцевым. Герасимова Соловьев не любил, хотя тот был хорошим учеником Серова и Коровина и писал портреты и мокрые от дождя террасы с пионами лучше мрачноватого по гамме Соловьева. Соловьев знал, что Герасимов был потомственным прасолом, стелил на пол своего сто десятого ЗИСа солому и посреди огромной, как цех, мастерской поставил чум-юрту, где жил со среднеазиатской танцовщицей-еврейкой из Бухары Ханум, постоянно ходившей в одних только газовых шароварах, выставляя напоказ маленькую и острую, как у козочки, голую грудь, и гремевшей браслетами с бубенчиками на руках и ногах. Личный друг Ворошилова, Герасимов часто ездил к нему на дачу, где они с совхозными молочницами парились в бане и хлебали рассол, как голодный непоеный скот. Вообще основным поставщиком славянского мяса с дырками в Академию для обработки был Дейнека, украинец по отцу, а по матери, как бывший вице-премьер Руцкой, – курский еврей. Очень хитрый человек, организатор массовых оргий для академиков, за что его очень ценили. “У меня все бабы чистые, проверенные в вендиспансере и работают на детском питании, – заверял Дейнека. – У них ни триппера, ни мандавошек нету”. Один портретист, академик Котов, так увлекся этими здоровыми дурами, что умер в купе поезда на одной из них, и проводники стаскивали его с голой испуганной женщины, придавленной огромной похолодевшей тушей. Его смерть почему-то всех очень развеселила, хоронили портретиста радостно и умиленно, постоянно при этом ухмыляясь. Дейнека любил уложить натурщицу в позу с раскрытой половой щелью и часами рисовать ее в ракурсе со всеми деталями влагалища, объясняя им, что это надо для анатомии. Платил он за такие сеансы двойную цену, но к натурщицам не приставал. Его кисти принадлежали целые композиции, на которых голые женщины занимаются спортом, и у всех тщательно прорисованы половые органы.

























