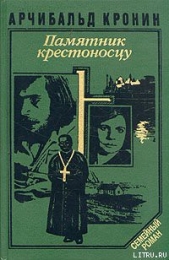Знакомьтесь — Вернер Херцог
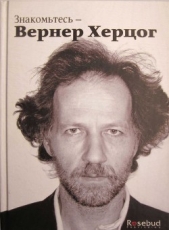
Знакомьтесь — Вернер Херцог читать книгу онлайн
Книга интервью с режиссером Вернером Херцогом — это общение с удивительной личностью. Херцог — прямой интеллектуальный наследник барона Мюнхгаузена и в то же время, Христофор Колумб от кино. Он снимал фильмы в джунглях Перу, в Африке, Сибири и Антарктиде, опускался с камерой на морское дно, путешествовал с ней по пустыням и поднимался на действующий вулкан. Рассказы о головокружительных приключениях режиссера, в которых сложно отличить правду от вымысла, а жизнь — от кино. Впервые на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если ваши фильмы не искусство, что они тогда?
Я часто спрашиваю себя: а как люди воспринимают мою работу? Хотелось бы, чтобы к моим фильмам относились, как к работам мастеров позднего Средневековья, у которых были мастерские и ученики. Художниками они себя не мнили. Все скульпторы до Микеланджело считали себя каменщиками, до конца пятнадцатого века никто не называл себя «художником». Они были мастерами-ремесленниками, набирали учеников и выполняли заказы для священников и бургомистров. Вспоминается история, которую мы обсуждали с режиссером Хайнером Мюллером в «Превращении мира в музыку». Микеланджело закончил «Пьету» в Риме, и уже после этого один из Медичи велел ему слепить снеговика в саду семейной виллы. Микеланджело не стал возражать, даже бровью не повел, пошел и слепил. Мне импонирует такое отношение к делу, в нем есть абсолютное пренебрежение.
Мне нравится, что живописцы позднего Средневековья по большей части картины не подписывали, как, например, неизвестный автор знаменитого кельнского триптиха. Когда мастер в тени, его имя не повлияет на судьбу произведения, создатель уже не важен, важна только сама работа. Мне всегда казалось, что авторство вообще не имеет особого значения — это касается и моих фильмов. Конечно, в наши дни сохранить анонимность нереально, потому что в этой сфере все переплетено, и когда снимаешь кино, сотрудничаешь с огромным количеством людей. Так что все равно станет известно, чей сценарий и кто режиссер. Взять «Догму», так одно из правил у них — имя режиссера не упоминается в титрах. Но это просто смешно, все прекрасно знают, кто автор: режиссеры-то считают своим долгом засветиться на телеканалах по всему миру.
Бесподобную короткометражку «How Much Wood Would a Woodchuck Chuck» («Заметки о новом языке») вы снимали в Штатах. Как вас занесло в Новую Голландию, штат Пенсильвания, на Мировой чемпионат аукционистов скота?
Я был заворожен аукционистами и их невероятным языком — это настоящая поэзия капитализма. Каждая система создает собственный предельный язык, как, например, песнопения в православии. И в языке аукционистов есть что-то окончательное и абсолютное. То есть дальше развиваться просто некуда. Пугающий язык и одновременно прекрасный, сколько музыки в их речи, какое чувство ритма. Почти шаманские заклинания.
Я приехал снимать чемпионат аукционистов, потому что был знаком с некоторыми из этих удивительных мастеров языка. Это, кстати, было не просто соревнование, а самый настоящий аукцион: за два-три часа они продали тысячу голов на два с половиной миллиона долларов, а судьи оценивали не только бешеную скорость речи конкурсантов, но и их умение распознать «подсадных» участников торгов. Еще один критерий — надежность аукциониста, умение поднять цену и его талант посредника. У меня есть мечта съездить туда еще раз и снять пятнадцатиминутного «Гамлета». Чтобы все чемпионы мира по продаже скота читали с экрана Шекспира. Это будет великая поэзия.
Несколько лет назад вы сказали, что Америка — самая экзотическая страна на планете. Что вы имели в виду?
Я очень люблю Средний Запад, например, Висконсин, где мы снимали «Строшека». В таких местах появляются на свет величайшие таланты. Орсон Уэллс был из Висконсина, Марлон Брандо из Небраски, Боб Дилан из Миннесоты, Хемингуэй из Иллинойса — все из глухомани. Ну, и Юг, безусловно, плодовит, там родились блистательные Фолкнер и Фланнери О’Коннор. Мне нравятся такие места, для меня это — сердце Америки. Там еще можно встретить веру в себя и дух товарищества, открытость и добродушие, обычных хороших людей — остальная Америка давно забыла об этих простых и прекрасных добродетелях.
Мне нравится в Америке дух прогресса, дух исследования. Америка — отважная страна. Мне глубоко симпатичен принцип равных возможностей, когда путь к успеху открыт для каждого. Если бы босой индеец с Анд изобрел колесо, вашингтонское патентное бюро помогло бы ему оформить права. Я как-то был в огромной научной корпорации в Кливленде, штат Огайо, там работали порядка двух тысяч человек, а управлял всем двадцативосьмилетний парень. На меня это произвело сильное впечатление. В Германии подобное в принципе невозможно.
Вы вернулись в Америку снимать «Строшека». Некоторые считают, что этот фильм — своеобразная шутливая критика американского капитализма. Вы согласны с этим?
В определенном смысле «Строшек» — фильм об американском образе жизни, это так. Но снял я его по другой причине. Я тогда собирался снимать «Войцека» и пообещал Бруно главную роль. Он пьесу не знал, я ему пересказал сюжет, и идея в целом ему понравилась. И вдруг я осознал, что совершаю большую ошибку. Я понял, что играть должен Кински, тут же позвонил Бруно и сказал ему об этом. Требуется известное мужество, чтобы, не мешкая, сообщать такие новости. В трубке повисла гробовая тишина. Потом он говорит: «А я уже отпуск взял. Что делать-то теперь?». Очевидно, что для Бруно очень много значило участие в фильме, и мне стало так чудовищно стыдно, что я брякнул: «Знаешь, Бруно, мы с тобой снимем другой фильм». Он спрашивает: «Какой другой?». Я говорю: «Сам пока не знаю. Сегодня какой день?» — «Понедельник», — отвечает он. И я говорю: «К субботе жди сценарий. И название даже будет похоже на „Войцек“. Фильм будет называться „Строшек“». Бруно вроде успокоился, я повесил трубку. Понедельник, полдень — а к субботе надо закончить сценарий, у которого пока есть только название. В субботу сценарий был готов. Я до сих пор считаю, что это, возможно, лучший из моих сценариев и один из самых удачных моих фильмов. Строшек — фамилия главного героя «Признаков жизни», а вообще так звали одного парня, с которым я был знаком сто лет назад. Я тогда учился в Мюнхенском университете, но на занятиях почти не показывался и попросил его написать за меня какую-то работу. «А взамен я что получу?» — спросил он. «Однажды, мистер Строшек, — сказал я ему, — я прославлю вашу фамилию». И я сдержал обещание.
Такое впечатление, что в Строшеке значительно больше от самого Бруно, чем в Каспаре Хаузере.
«Строшек» вообще в значительной мере фильм о Бруно. В нем отражено то, что я знал о Бруно, о его окружении, его эмоциях и чувствах, и, конечно, отражена моя искренняя привязанность к нему. Поэтому сценарий писался легко. Иногда кино целиком строится на стилизации, в «Строшеке» же показана реальная жизнь и настоящие страдания. Не театральные страдания, не пошлая мелодрама, — Бруно на экране всегда страдает по-настоящему. Его герой очень похож на него, поэтому некоторые сцены мне до сих пор тяжело смотреть. Особенно эпизод, когда два сутенера избивают Эву Маттес и швыряют Бруно на рояль, — потому что так ведь, наверное, с ним обращались все его детство. В его игре столько величия! «Я буду стойким солдатом, мне прежде и сильнее доставалось», — сказал он перед съемками этой сцены. Хотя в сценарии все было расписано от начала до конца, некоторые сцены — импровизация. Например, когда Бруно рассказывает Эве Маттес о том, какое одиночество и боль он пережил в приюте, как, если он мочился в постель, его заставляли часами держать простыню на весу, пока она не высохнет. Если он опускал руки — его били. Это все было на самом деле. Эва — молодец, она просто слушала, давая ему выговориться. Она понимала, как добиться от Бруно определенной реакции и направить сцену в нужное русло. В фильме он выходит на берлинскую улицу, поет и играет на аккордеоне — в жизни он это делал каждый выходной. Бруно знает каждый двор и закоулок в Берлине, а некоторые из песен, что он поет в «Строшеке», он написал сам. Выйдя из тюрьмы, он идет в пивную — это пивная рядом с его домом, и его там все знают. Весь его реквизит, все музыкальные инструменты в фильме — все его собственное.