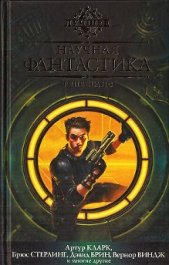Мой отец Соломон Михоэлс

Мой отец Соломон Михоэлс читать книгу онлайн
Первый в истории Государственный еврейский театр говорил на языке идиш. На языке И.-Л.Переца и Шолом-Алейхема, на языке героев восстаний гетто и партизанских лесов. Именно благодаря ему, доступному основной массе евреев России, Еврейский театр пользовался небывалой популярностью и любовью. Почти двадцать лет мой отец Соломон Михоэлс возглавлял этот театр. Он был душой, мозгом, нервом еврейской культуры России в сложную, мрачную эпоху средневековья двадцатого столетия. Я хочу рассказать о Михоэлсе-человеке, о том Михоэлсе, каким он был дома и каким его мало кто знал. Однако жизни вне театра - до определенной поры - ни у него, ни, соответственно, у нас не было. Поэтому даже самые первые мои воспоминания связаны с театром
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Штатный пожарник Госета возглавлял отряд противовоздушной обороны в нашем театре. Отец записался в боевую группу, состоявшую из молодых, еще не мобилизованных актеров. Однако после первой же бомбежки пожарник решительно запротестовал: «Вам, Соломон Михайлович, полагается более важный пост», и отстранил его от работы. Тогда он принялся ходить по инстанциям с просьбой отправить его на фронт в числе ополченцев — людей, не прошедших военную подготовку. Там ему конечно ответили, что» найдут ему другое применение».
Внешне он был необычайно подтянут. Брился два раза в день. Одевался с несвойственной ему тщательностью. Своей твердостью, собранностью и юмором он поддерживал и растерянных, охваченных паникой актеров, и своих многочисленных братьев, и всех нас. Но сам он, несомненно, был в не меньшей растерянности, чем остальные, хотя в первые два месяца войны, что мы провели вместе, он даже с нами не позволял себе» расшнуровываться», как мы это называли дома.
Между тем, пока им не нашли» другого применения», они с Зусой назначили сами себя» пожарниками» нашего дома. Их снабдили страшенными колпаками и варежками, в которых полагалось бегать на крышу гасить зажигалки в случае воздушной тревоги. В ожидании бомбежки папа с Зусой усаживались на лестничной площадке, куда мы выносили маленький столик с черным кофе, и коротали время в неторопливой беседе.
— Вась, а Вась,— спрашивал задумчиво Михоэлс, перевоплотившись временно в водопроводчика, — что там с канализацией? Спущает кран, аль не спущает?
— Да это ж, Петь, от напору зависить,— вдохновлялся Зускин.
Нередко их» профессиональная беседа» прерывалась воем сирен, и тогда, напяливая на ходу колпаки и варежки, оба бросались на крышу, тушить» зажигалки». Однако сразу после отбоя, вернувшись на свои места, они возобновляли свой разговор, вернее уже не они, а неподражаемые Петя с Васей — то слесари, то дворники, то водопроводчики.
Но в конце июля — начале августа бомбежки участились и длились до рассвета. Папа заставлял нас спускаться в бомбоубежище, где мы изнывали от духоты и страха. Нину же вообще невозможно было туда загнать.
Тогда отец решил отправляться с нами в метро, куда уже стали ходить целыми семьями. Отправлялись заблаговременно, пока не стемнело. Мы шли на станцию» Охотный ряд», недалеко от Красной площади. Москвичи тащили за собой свой скарб: кто узелок, кто чемодан, а кто самовар.
Лежали на железнодорожных путях, подложив под голову одеяло, коврик, а то и просто газету. Отца многие узнавали, подходили побеседовать и обсудить вопрос, занимавший всех — об исходе войны.
Михоэлс вежливо поднимался со своего неудобного ложа, отвечал что‑нибудь неопределенное, вроде» поживем — увидим», или» надеюсь, все это скоро кончится» — да и что он, в самом деле, мог знать? — и снова укладывался на свою газету. В конце концов, все это превратилось в довольно утомительную игру.
Писатель В. Лидии в книге» Люди и встречи» вспоминает:
«Москва была темна, просторна и тревожна. Только недавно диктор возвестил: «Граждане, угроза воздушного нападения миновала». Мы стояли в темноте Охотного ряда, вглядываясь в невидимую улицу Горького.
— Когда снова откроются театры, надо будет начать с чего‑нибудь шумного, веселого, чтобы люди встряхнулись! У меня от этих синих лампочек начинается радикулит, — кивнул Михоэлс в сторону вестибюля гостиницы» Москва» и, взявшись рукой за поясницу и изображая что именно от синего света у него начинается радикулит, он простился со мной и заковылял в сторону гостиницы».
ЭВАКУАЦИЯ
В середине августа вышел указ вывезти из Москвы всех детей до пятнадцати лет. Папа принялся судорожно рыскать по карте, висевшей у нас с первого дня войны, в поисках безопасного места, стараясь припомнить хоть каких‑то знакомых, к которым нас можно было бы отправить. Наконец остановились на Свердловске — там жил дирижер Моргулян, работавший в двадцатые годы в нашем театре.
Надо было торопиться. Каждый день приходили из каких‑то комиссий проверять имеются ли еще дети в квартире. (У нас всегда что‑нибудь проверяли.)
Приказ касался, разумеется, только Нины, но я понимала, что папа не пустит ее без меня.
Накануне отъезда мы сидели внизу. Смеркалось. В небе висели аэростаты, похожие не то на рыб, не то на огромные варежки. Папа, держа наши руки в своих, тихо уговаривал нас, а заодно и себя, что для него спокойнее сознавать, что мы в безопасности, что как только представится возможность, он вызовет нас или приедет сам, клялся прекратить дежурства на крыше, обещал спускаться в бомбоубежище и так далее… Позже мы узнали, что все свои обещания он честно выполнил. Однако, в возможность обещанной им скорой встречи, он сам вряд ли верил, и был растерян и напуган предстоящим расставанием не меньше нас.
… И вот мы на вокзале. На путях стоит вагон — теплушка. Ефейка со своей женой уже погрузились, тут же еще один папин брат с двумя детьми.
Михоэлс, верный своему амплуа Старшего, отправлял в эвакуацию всех, кого любил.
Мы с Ниной мало что соображали. Помню только, как папа вдруг исчез и появился с пачкой папирос» Казбек», которую мне торжественно вручил. Очевидно, признавая за мной право» официально» курить, папа имел в виду поддержать во мне ощущение собственной взрослости и солидности, которое облегчило бы расставание.
И вот теплушка медленно трогается. Папа соскакивает на ходу. Мы расстаемся неизвестно на какой срок…
Когда мы увидимся? Что будет с ним? С нами без него?
МОСКВА ШЕСТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ
Отец с Асей оставались в Москве до шестнадцатого октября.
Это были памятные дни, когда сжигались бумаги, и московские мостовые и тротуары были завалены обрывками намокших от дождя обгоревших документов. Население было охвачено паникой. Страх, томивший людей всю их сознательную жизнь, прорвался, наконец, с визгом и улюлюканьем, наружу и погнал их, заторопил, заставляя бросить все и бежать, бежать без оглядки. Охваченные страхом, они не ведали, что, уцелев от Гитлера, они не минуют участи, заготовленной им Великим Кормчим… Любопытно и весьма характерно для наших светлых времен, что та часть москвичей, которая сознательно оставалась в Москве ждать немцев, была в дальнейшем награждена медалями» За оборону Москвы», и в большинстве своем, от Сталина не пострадала.
Зато бежавших догнали. И наказали» по заслугам».
Но в эти дождливые осенние дни сорок первого года было ясно одно — немцы рядом и потирают руки, готовясь разгромить Москву и уничтожить евреев во главе с Михоэлсом.
В захваченных городах развешивались его портреты с надписью: «так выглядит еврей!«Немецкая радиостанция на какой‑то из оккупированных территорий уже объявила голосом Блюменталь — Тамарина, сына известной актрисы, бежавшего к немцам, что» недалек тот час, когда мы сотрем с лица земли кровавую собаку Михоэлса!»
До шестнадцатого октября театр формально продолжал работать. Актеры приходили, собирались у Михоэлса в кабинете и, главным образом, обсуждали военные сводки. Ася вспоминала, что даже готовилась какая‑то новая постановка. Я ничего об этом не знаю.
Но в середине октября сводки стали совсем тревожными. Немцы подступали к Москве. В театре, как и повсюду, царила полная неразбериха. Никто, в том числе и отец, ничего не понимал и не знал, как будут развиваться события.
16 октября в шесть часов утра большая часть труппы Госета была эвакуирована в Ташкент.
Михоэлсу было предложено поехать в Нальчик, куда направлялись лучшие актеры московских театров, «золотой фонд», как их тогда называли. Но отец отказался. Как ни банально это звучит, но для него действительно не существовало жизни вне и без своего театра. Той же ночью он вылетел в Куйбышев, а оттуда в Ташкент. По — видимому, он отправился в Ташкент через Куйбышев, чтобы получить официальное подтверждение на пребывание театра в Ташкенте — все государственные бюрократические учреждения находились тогда в Куйбышеве. В суете тех немногих лет, что папа прожил после войны, мы так и не успели уточнить с ним разные мелкие подробности.