Суд над судом. Повесть о Богдане Кнунянце
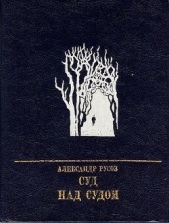
Суд над судом. Повесть о Богдане Кнунянце читать книгу онлайн
В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Кнунянцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана».
Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армянский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Кнунянцу (1878–1911), революционеру, ученому, публицисту. Ее действие переносит читателей из химической лаборатории конца девяностых годов прошлого века в современную лабораторию, из Нагорного Карабаха — в Баку, Тифлис, Москву, Петербург, Лондон, Женеву, из одиночной тюремной камеры — в трюм парохода, на котором бежит из ссылки двадцативосьмилетний герой, осужденный по делу первого Петербургского Совета рабочих депутатов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В такую вот веселую игру играли сыщики и нелегалы. Кто кого переиграет. Такая была игра. Такими остроумными предстают перед нами служащие жандармского управления. Художники-моменталисты, сочетающие увлечение искусством с основной работой филеров. Любители игры в кошки-мышки.
Хорошие сыщики выследили много нелегалов, плохие — мало. По статистике, средняя продолжительность жизни последних значительно превышала продолжительность жизни первых. Для сравнения: некоторые виды кровососущих клещей живут в несколько раз дольше, если не имеют возможности напиться крови. Но это уже из области геронтологии.
Сыщик, выследивший Жука в парке Сельскохозяйственной академии, в результате чего Жук, он же Волк, был арестован, скончался буквально через несколько дней. То ли слишком легко был обут и простудился, то ли волчья кровь оказалась чрезмерно питательной. Трудно сказать. А теперь, семьдесят лет спустя, просто неввозможно.
Сам Волк называл себя Асей. «Занята, — писал он Татарке. — Некогда длинное письмо писать». Такая запутанная получалась игра.
Вот что еще привлекло мое внимание в довольно-таки занудной, монотонно-однообразной как по форме, так и по содержанию полицейской летописи. При аресте 15 февраля 1904 года у Жука были обнаружены «завернутые в бумагу отдельные кусочки какого-то белого вещества». Так написано в описи отобранных у задержанного вещей. Это «белое вещество» промелькнет в полицейских протоколах еще раз несколько лет спустя. Если моя догадка, связанная с химическими формулами, верна, то вещество, отвечающее подвопросной структуре V, по всей видимости, должно быть как раз белым, если только дедушке удалось выделить его в чистом виде.
Остается лишь пожалеть, что среди полицейских не оказалось ни одного химика-любителя, который бы из любопытства, в факультативном, так сказать, порядке определил молекулярный вес вещества, осуществил бы его элементный анализ, ну и так далее. Такой любитель оказал бы неоценимую услугу науке, человечеству и будущей книге о Богдане Кнунянце.
Но как же все-таки удалось получить то вещество? Было ли оно опробовано на животных? Знал ли Виктор Никодимович Пилипенко о том, какого рода опыты ставились в его лаборатории? Интересно также, какие изменения в человеческом организме может вызвать действие сильного геропротектора. Скажем, сохраняются ли черты лица, цвет волос? Не покажется ли человеку, принявшему достаточно большую дозу геропротектора, и всем, кто его окружает, что он умирает или бесследно исчезает куда-то, тогда как его молодая жизнь продолжается в новом времени, в ином качестве?
Сразу столько вопросов, И ни одного ответа на них.
Часто я ловил себя на мысли, что все происходившее с Богданом Кнунянцем в действительности когда-то происходило со мной. Краешек памяти улавливал далекий, знакомый гул, и мне вдруг начинало казаться, что папки Ивана Васильевича разбираю не я нынешний, но я, уже живущий в будущем, то есть, скорее всего, мой внук.
Наибольшие затруднения, пожалуй, вызвали те места в рукописи, где говорилось о гибели и похоронах Богдана. Из записей, составленных на основе свидетельских показаний и периодической печати тех лет, вырисовывалась весьма противоречивая картина. Одни свидетели утверждали, например, что Мирзаджан Гнуни присутствовал на похоронах сына, другие — что по состоянию здоровья он никак бы не мог приехать тогда в Баку. В одних источниках говорилось о внушительной демонстрации по случаю тех похорон, в других — что никаких официальных похорон вообще не было, поскольку умерших политических заключенных не выдавали родным и товарищам. Имевшиеся материалы не подтверждали ни одну из этих версий.
Впрочем, подобные вопросы возникали не столько с этим февральским, шестым по счету, сколько с более поздним арестом. Тогда он не назвал своего настоящего имени, а в этот раз назвал, хотя подписать протокол допроса отказался. Он навел их на свой след, чтобы отвлечь. Предложил запросить Баку, сличить почерки. Тянул время. Надеялся, что пока возятся с ним, Бауман и другие скроются, уцелеют. В Рогожском полицейском участке его допрашивали ежедневно. Он же твердил свое:
— Я — Богдан Мирзаджавов Кнунянц. Других ответов давать не буду.
Три месяца назад ему исполнилось двадцать пять лет.
Через шесть дней арестованного Кнунянца перевели в московскую губернскую тюрьму — в Таганку. Перевозили ночью, когда движение на улицах почти прекратилось. Кое-чему полиция научилась за последние годы.
Когда в апреле 1902 года их всех арестовали в Баку по обвинению в организации первомайской демонстрации, то повели по городу среди бела дня. Кроме братьев под конвоем шли Лиза и Роза Бабикова, а главное — Фарс в гимназической форме, с ученической сумкой в руке. На них глазели, вздыхали: «Что же это такое делается? Детей стали брать». Первомайская демонстрация продолжалась. Сочувствие было на их стороне. Людвиг шутил: «Боюсь, у них места не хватит поселить как следует наше многочисленное семейство». Тигранчик сверкал глазами, как пойманный волчонок. Роза прижималась Людвигу. Начальнику Бакинского жандармского управления (кажется, им уже был тогда полковник Дремлюга) дорого обошлась эта прогулка арестованных по весеннему городу.
Еще не истек и месяц отсидки в Таганской тюрьме одного агитатора за созыв III съезда партии, как ему на смену спешил из-за границы другой агитатор — тридцатилетний член ЦК Фридрих Вильгельмович Ленгник. Он же баварский купец Артур Циглер. Он же Кол.
Купец ехал в Россию по делу. Некоторые российские цекисты имели смутное представление об истинном характере конфликтов между «большинством» и «меньшинством». Примиренцы делали вид, будто ничего не происходит. Меньшевики захватывали комитеты. Только встретившись в Москве с Носковым, Красивым и Гальпериным, Ленгник понял, насколько серьезное положение сложилось в партии. Тревога заграничной группы большевиков расценивалась здесь некоторыми как блажь сопревших в отсутствие практических дел эмигрантов.
Так возникло это почти неприметное облачко на горизонте.
Раскаленная русская почва, постоянная угроза арестов, мелькание лиц, сумятица мнений, напряженный характер жизни развили у некоторых местных работников прогрессирующую близорукость. Тогда как сверху, с живописных швейцарских гор было видно, что облачко несет бурю, молнию, которая может спалить начавшее набирать рост деревце революции, обуглить его, сжечь дотла.
Купца раздражало интеллигентское высокомерие Гальперина, поучающий тон, снисходительный взгляд. Гальперин говорил о том, что негоже, мол, сеять смуту среди своих, что все они принадлежат к организации, само название которой требует соблюдения демократического стиля отношений. Что именно создаваемый сегодня стиль обусловит будущее партии. «Наша тактика, — говорил Гальперин, — должна опираться на массовое движение, а не на кучку заговорщиков. Завтра кому-то еще не понравится что-то в решении съезда, и он вздумает созвать новый съезд. К чему мы придем? Во что превратимся?» И еще не раз Гальперин козырял словом «тактика», которому Купец решительно противопоставил стратегию: важен конечный результат — быть или не быть революции.
— Но согласитесь, товарищ Ленгник, ее судьба не так уж сильно зависит от превратностей европейского климата и от умонастроений Заграничной лиги наших многоуважаемых товарищей, — не без сарказма заметил Гальперин.
Разговор чуть не кончился дракой. Гальперин не хотел скандала. Купец на него не шел. Тем не менее завершилось скандалом. И полным разрывом. Ленгнику казалось, что, понюхав власти, цекист Гальперин стал не в меру надменен. Это его и взорвало.
В том числе это.
Личные пристрастия, несовместимые черты характера, мягкотелость и беспощадная жестокость, удовлетворение тщеславия и ненасытная жажда действия не в последнюю очередь разводили бывших товарищей в разные стороны.
Казалось бы, как легко договориться. Как упростилась бы жизнь, если бы на той только основе возникали группы, кружки, партии, что одни умны, другие глупы, третьи коварны, четвертые благородны. Сколько всего намешано в том непостижимом вареве, которым бурлит алхимический котел истории! Какие только элементы в нем не образуются, в какие диковинные молекулы не складываются! Лепится молекула к молекуле, на ощупь угадывая сродство, а другая, напротив, отталкивается, подходящую себе пару ищет, обрастает оболочкой, тычется в разные стороны, ударяется о стенки, пока не соединится с себе подобной, не прореагирует со своим антиподом. А если никого не найдет, то весь век одиночкой промыкается, останется неуловимой, нечувствительной для истории нейтральной частицей или пусть даже заряженной положительно или отрицательно.


























