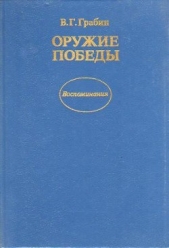Памятные годы

Памятные годы читать книгу онлайн
Воспоминания Николая Буренина, одного из участников революционного движения в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долго не раздумывая, я схватил табуретку и что есть силы ударил ею в форточку, находившуюся в двери. В камеру ворвался тюремный офицер с револьвером в руке и солдаты с ружьями. Солдаты по приказу офицера схватили меня за руки, чтобы вытащить из камеры, но я громко крикнул:
- Не сметь трогать, сам пойду!
Под конвоем повели меня вниз, в карцер.
Вся тюрьма была заполнена вооруженными солдатами. Растерянное начальство бросалось от одной камеры к другой. Всё кругом ревело, стонало, звенело. По всем лестницам вели. людей в карцер.
В нижнем холодном коридоре с тяжело нависающими каменными сводами меня заставили снять пиджак, сапоги, а затем втолкнули в одну из камер, откуда на моих глазах только что выпустили двух уголовных.
Дверь захлопнулась, щелкнули замки, и я очутился в полной темноте. У меня захватило дыхание от ужасного зловония. Пол был мокрый, и я не решался двигаться, чтобы не поскользнуться и не упасть.
С трудом добрался я до узкой, сколоченной из досок койки. Изголовья на ней не было. и лежать было очень неудобно. Беспокоил меня болезненный нарыв на спине. Я опасался, что в такой обстановке дело кончится заражением крови.
В еще более тяжелом положении был товарищ, лежавший рядом со мной. Он весь горел, у него был сильный жар. Временами он начинал бредить.
Звонков в карцере не было. Надзирателя нельзя было вызвать. Нужно было ждать, когда он сам придет.
В камере было четырнадцать человек. Мы договорились стучать и кричать, пока не придет врач, чтобы освидетельствовать больного и перевезти его в больницу.
Прошла ночь. Ни доктор, ни фельдшер не являлись. Положение больного ухудшилось. Он лежал без сознания. Взволнованные, мы решили начать обструкцию.
Опять воцарилось затишье. Потом раздался звук, за ним другой, начался шум. Я неистово колотил металлической кружкой по железной двери, кричал так, что, кажется, горло разрывалось, но не слыхал даже звука собственного голоса.
На минуту шум утих, мы услышали лязг оружия и голос:
- Принести сумасшедшие мешки и веревки.
Однако начальство всё-таки испугалось новой обструкции. Пришел врач с санитарами и носилками. Больного унесли.
В карцере мы пробыли неделю. Когда я вышел на свет, меня шатало. Приходилось держаться за стены. Я почти ничего не видел, в глазах рябило, все предметы расплывались. В таком состоянии я едва дотащился до своей камеры. Одна была у меня мечта - лечь на койку. Но эта мечта не осуществилась. Койка была привинчена к стене, всё из комнаты было вынесено, за исключением предметов, прикрепленных к стенам.
После карцера меня лишили свиданий, прогулок, передач, отняли карандаши, бумагу, книги. Мне оставалось днем или ходить по камере, или лежать на полу, потому что койку на весь день привинчивали к стене.
Но наконец наступила развязка. Меня вызвал следователь Тунцельман и заявил:
- Ваше дело, господин Буренин, передается в суд. Вы, я вижу, сами понимаете, что вряд ли вам грозит что-либо серьезное, так как прямых улик мало, но я лично остаюсь при своем мнении. Думаю, что мы еще с вами встретимся.
Я ответил следователю, что надеюсь не доставить ему больше этого удовольствия.
Настал день суда. Конвойные с оголенными шашками ввели меня в зал, где происходило судебное заседание, и сразу ушли. Я увидел людей, заполнивших зал, мать, сестру, некоторых товарищей по подпольной работе, присутствие которых мне было особенно дорого. Над всеми возвышалась убеленная сединами голова Дмитрия Васильевича Стасова. Он направился ко мне, обнял меня через решетку, поцеловал, справился о здоровье и сказал:
- Если бы вы слышали новую симфонию Глазунова! Вчера ее исполняли в Симфоническом собрании. Ну, знаете, и гениальное же произведение!
И Дмитрий Васильевич стал рассказывать о достоинствах новой симфонии. Мы оживленно и весело разговаривали. Но ко мне подошел мой защитник О. О. Грузенберг и сказал:
- Не надо смеяться.
В эту минуту раздалось: “Суд идет!” Все встали.
Единственный свидетель обвинения, совершенно незнакомый мне человек, отказался от ранее данных им показаний.
- Это не тот, - сказал он обо мне. - Тот был маленький, чернявенький, а этого я никогда не видел.
Меня оправдали.
Так закончилось мое годичное пребывание в тюрьме.
Люди большевистского подполья
Эдвард Карлсон
Эдвард Карлсон, семнадцатилетний рабочий-слесарь, был в 1905 году административно выслан из Кронштадта в Олонецкую губернию за хранение нелегальной литературы. Кронштадтская полиция, ограничившись арестом одного Эдварда, который взял на себя всё найденное в квартире, не увидела за деревьями леса. Отец Эдварда Ян Карлович был активным революционером. Да и вся их квартира была своего рода революционным штабом.
Жили Карлсоны в домике, находившемся на окраине Кронштадта. Задним своим двором с закрытыми воротами домик выходил на пустынный переулок.
По этому переулку и доставляли наши товарищи Карлсонам нелегальную литературу, которая затем распространялась по военным судам и заводам.
Люди, приносившие литературу, входили в домик Карлсонов через задние ворота, разгружались, а затем “чистенькими” удалялись через парадный ход.
Квартира Карлсонов служила не только транспортной базой, но и явкой солдат и матросов, связанных с большевиками, а иногда и местом собраний.
Пользовался этой квартирой, в частности, и Д. 3. Мануильский, бывали здесь и другие товарищи, работавшие в нашей военной партийной организации.
Выслав Эдварда, полиция успокоилась, но домик Карлсонов продолжал нести свою службу.
Покочевав по разным тюрьмам, Эдвард попал наконец на место своей ссылки. Это была деревня Порось-Озеро Олонецкой губернии, находившаяся в двадцати верстах от финляндской границы. В деревне этой Эдвард, однако, долго не засиделся. Несколько ссыльных, в их числе и Эдвард, сговорившись, бежали через леса и болота и со всякими приключениями добрались до Гельсингфорса. Остановились они в маленькой гостинице на Вуори-кату. Разговорившись с хозяевами гостиницы, узнали, что в Гельсингфорсе организован комитет помощи русским политическим беженцам. Товарищи связались с этим комитетом, и им было оказано содействие.
Эдвард попал к Вальтеру Шебергу, который предоставил ему приют в своей квартире. Кроме того, Шеберг достал ему паспорт на чужое имя и устроил в механическую мастерскую слесарем. В квартире Шеберга я и познакомился с Эдвардом.
Трудолюбивый, как муравей, Эдвард всегда был занят какой-нибудь работой. Он был не только слесарем, но и прекрасным столяром, токарем, не отказывался ни от какого дела: с одинаковой любовью делал он простой стул, табурет и тонкую художественную шкатулочку с вырезанным на ней рисунком - произведение настоящего мастера-художника. Когда у Шеберга бывали гости, Эдвард недолго оставался с ними, незаметно исчезал в свой уголок, где что-нибудь мастерил, или в ванную комнату, где проявлял фотографии.
Казалось, что такая разносторонняя художественно-ремесленная работа и есть его призвание, что ничем другим он не интересуется. Но познакомившись с ним ближе, я увидел, какой это был человек, какие мысли его тревожили, чем он внутренне жил. Эдвард очень много читал, серьезно занимался самообразованием и вел революционную работу, сознательно придя к мысли, что только один путь может раскрепостить человека - путь революционной борьбы. Он очень томился своим вынужденным бездействием, старался помогать нам в работе и рвался обратно в Россию, чтобы вновь отдаться революционной деятельности.
Однако сразу ему это не удалось. Тогда Эдвард при помощи того же Шеберга поступил кочегаром на финский пароход “Сага”, совершавший рейсы между Финляндией и Африкой. Служба эта, продолжавшаяся полтора года, была крайне тяжелой. В тропиках нередко выносили кочегаров на палубу и окатывали водой, чтобы привести их в чувство.
Чрезвычайно характерным для Эдварда было его отношение к работе. Уж на что тяжелы были обязанности кочегара, и всё же потом, прощаясь с пароходом, он мне писал: