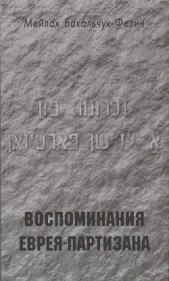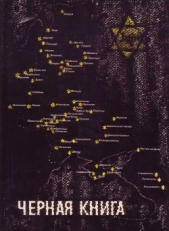Я должна рассказать

Я должна рассказать читать книгу онлайн
"Я должна рассказать" — дневниковые записи, которые автор в возрасте с 14 до 18 лет вела, одновременно заучивая их наизусть, в Вильнюсском гетто и двух нацистских концлагерях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Загоняют на корабль. Палуба почти как площадь. Конвоир открывает люк и велит нам лезть вниз. Лесенка очень крутая, внизу темно. Спускаюсь. Там еще лесенки, и конвоир гонит дальше.
Наконец мы в самом низу. Ощупью ищу место, куда сесть. Кое-как нахожу и сажусь. Оказывается, здесь уже много женщин. Есть и из других лагерей.
Куда нас повезут? Не будет ли еще хуже, чем было? А самое главное — мы опять отдаляемся от фронта.
Сидим. Там, за бортом корабля, время, может, и движется, но здесь оно застыло. Еще день или уже вечер?
Губы запеклись, очень хочется пить. Жарко, душно, рубаха больно натирает шею и под мышками, но снять боюсь: в темноте могу потерять. Хоть бы вытянуть ноги!..
Мы все еще не отчаливаем. Неужели так долго грузят? Что же такое они отсюда вывозят?
Сидящие ближе к выходу начали стучать в крышку люка, прося воды. Долго никто не отвечал, потом люк открыли, и конвоир зло прокричал: "Кто будет шуметь, окажется за бортом! Там много воды!.."
Люк захлопнулся. Снова темно.
Наконец корабль отчалил. Плывем. Куда? Вернемся ли когда-нибудь?..
О том, что уже утро, рассказали вернувшиеся с палубы девушки. Оказывается, там стоит довольно сговорчивый часовой и разрешает выносить упавших в обморок.
Я бы тоже хотела попасть наверх, но меня опережают те, кто быстрее замечает, кому становится плохо. Есть и такие, которые нарочно разыгрывают обморок.
Соседка предложила мне создать с ней и ее подругой тройку. Одна "упадет в обморок", а две ее вынесут. Я притвориться не сумею, лучше понесу.
Наконец воздух! Вдыхаю его глубоко-глубоко. Солнце слепит глаза, ветерок приятно освежает. Просторно, красиво — только солнце, небо и море. Вдали что-то виднеется, наверно город. Может, Клайпеда? Ведь я там родилась.
"Zurűck!" — "Назад!" — орет немец. Так быстро… Наша «больная» слишком рано открыла глаза.
Ночью на палубу не пускали. Мы сидели вялые, потные.
Неожиданно сверху послышался голос гитлеровца: "Воздушная тревога! Не шевелиться — стрелять буду!" Как мы шевельнемся? Да и кто нас с самолета заметит? Смешно.
Вскоре тревога кончилась. Очевидно, самолеты только пролетели мимо.
Утром принесли хлеб. Раздавать поленились, просто бросили. Одни поймали по нескольку кусочков, другие (в том числе, конечно, и я) — ничего. Счастливицы делились с нами. Кто-то сунул мне в руку маленький кусочек — хватило, чтобы откусить только четыре раза.
Кончился невыносимо длинный день, прошла и трудная ночь.
Примерно около полудня мы почувствовали, что корабль замедляет ход. Остановился. Но нас не выпускают. Неужели повезут дальше? Тогда уже наверняка задохнемся.
В конце концов дождались спасительного "Heraus!".
Когда мы строились на берегу, я оглянулась: совсем непохоже на порт. Поля, дорога и небольшие домики.
Поглазеть на нас прибежало несколько подростков. Кто-то шепотом спросил их, где мы. Они ответили, что недалеко отсюда Данциг. А меня почему-то не интересует, где мы. Важно, что можно дышать.
Нас снова сосчитали и велели идти. Приплелись к реке. Уже темнело. Нас начали загонять в крытые черные баржи. Опять море. Первые влезли согнувшись, кое-как сели, а конвоиры заталкивали новых. Пугали — тех, кто не вместится, бросят в воду. Сжатых, задыхающихся, нас повезли.
Ночью я была словно в кошмаре: моментами казалось, что уже умираю, моментами я вообще ничего не чувствовала.
Солнце уже было высоко, когда нас наконец выгнали на берег. Мы едва отдышались, как нас уже погнали дальше.
На перекрестках — указатели с надписью «Штуттгоф». Значит, нас ведут туда.
Проходим через чистенькую деревню. По обеим сторонам улицы на солнцепеке дремлют домики. Каждый огорожен заборчиком, окружен цветами. Играют дети… Как здесь тихо! Будто нигде в мире нет ни войны, ни Гитлера, ни Понар…
Вдали показались длинные ряды бараков. Мы завернули направо, и бараки заслонили роскошный сад. Красивые аллеи, каменные домики, фонтан, качели, стол для пинг-понга — настоящий райский уголок. Но сад кончился, и перед нами открылась пустыня, ограждения из колючей проволоки и длинные ряды бараков. Они словно выстроились на песке, отделенные друг от друга поперечными рядами проволоки. Кажется, будто весь лагерь разделен на большущие прозрачные клетки. Над оградой, на высоких столбах, торчат будки постовых с окошками во все четыре стороны.
У ворот стоят офицеры. Они нас пересчитывают и впускают внутрь. У входа постовой монотонно предупреждает, что подходить к ограде запрещается — она под током.
Мы входим в первую клетку. Ворота за нами закрывают. Открывают следующие, в другую такую же клетку. Снова закрывают. Пропускают в третью клетку. И так все дальше, все глубже в лагерь.
Когда проходим мимо бараков, заключенные с нами заговаривают, спрашивают, откуда мы. Хотя за разговоры охранники нас бьют, мы не удерживаемся и отвечаем. Из бараков к нам обращаются по-русски, по-польски, по-еврейски. У одного барака стоят ужасно худые женщины, очевидно больные. Они ни о чем не спрашивают, только советуют остерегаться какого-то Макса.
Справа от женских — мужские бараки. Ограда между ними двойная — два ряда колючей проволоки. Их разделяет широкий промежуток. Кроме того, с внутренней стороны ограды от столбов протянуты еще и наклонные ряды проволоки.
Мужчины тоже наблюдают за нами. Иногда кто-нибудь несмело выкрикивает, откуда мы. В одном месте какой-то пожилой человек, услышав, что мы из Вильнюса, спрашивает, давно ли мы оттуда. Мне его лицо кажется очень знакомым, но оглянуться опасно: конвоир совсем рядом.
Нас провели в самые последние — девятнадцатый и двадцатый бараки. Здесь уже стояло несколько эсэсовцев и один штатский, но с номером заключенного. Крикнув, чтобы мы выстроились для проверки, этот штатский сразу же начал нас бить и пинать. За что? Ведь мы равняемся, а он ничего другого не велел.
Я вытянулась, замерла. Но этот штатский подлетел, и я, даже не успев сообразить, в кого он метит, скрючилась от страшной боли.
А эсэсовцы стояли в стороне и гоготали.
Этот изверг избил всех — от одного конца строя до другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать. Но тут один офицер заметил, что уже пора обедать, и они ушли, оставив нас стоять.
На другом конце строя стоят несколько десятков женщин. Они рассказывают о здешней жизни, и каждое их слово шепотом передается из уст в уста. Они из Польши. В этих блоках еще только неделю, раньше были в других. Здесь хуже, потому что старший этих блоков — Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике человека. Нескольких он уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадцатый год за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость.
Так вот что значит настоящий концентрационный лагерь! Выходит, в Штрасденгофе еще было сравнительно терпимо…
Эсэсовцы и Макс вернулись под вечер. Избивая и ругаясь, кое-как сосчитали нас и впустили в бараки. Нары здесь тоже трехэтажные, но без сенников и одеял — просто неотесанные доски.
Нас поднимает крик Макса. В открытое окно летят камни. Бросаемся к двери. Здесь давка, толчея. Неожиданно все начинают пятиться назад: Макс стоит у дверей и бьет каждую выбегающую по голове. Хотим выпрыгнуть в окно, но Макс, очевидно, угадал наши намерения и уже бежит туда — бить за "нарушение порядка". Неужели мы не знаем, что выходить надо через дверь?
Бегу обратно к двери и еле увертываюсь от удара Макса: он уже успел вернуться сюда.
В наказание за то, что мы недостаточно быстро выбежали на проверку, Макс оставляет нас стоять на жаре весь день. Предупреждает, что в случае малейшего движения постовые будут стрелять.
Солнце безжалостно печет и совершенно не двигается с места — все высоко и высоко. Хочу пить. Ноги дрожат и подкашиваются. Кажется, свалюсь тут же, в песок, в пыль, лишь бы минутку отдохнуть.
Нас регистрировали. Записать свой настоящий возраст я побоялась: ведь тех, кто моложе восемнадцати лет, они считают неработоспособными. Промямлила, что мне двадцать. А если эсэсовец не поверит? За попытку обмануть наверняка расстреляют. Но, к счастью, он даже не поднял на меня глаз.