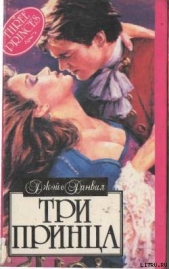Джойс

Джойс читать книгу онлайн
Ирландец Джеймс Джойс (1882–1941) по праву считается одним из крупнейших мастеров литературы XX века. Его романы «Улисс» и «Поминки по Финнегану» причудливо преобразовывали окружающую действительность, вызывая полярные оценки — от восторженных похвал до обвинений в абсурдности и непристойности. Избегая внимания публики и прессы, он окружил свою жизнь и творчество завесой тайны, задав исследователям множество загадок. Их пытается разгадать автор первой русской биографии Джойса — писатель и литературовед Алан Кубатиев. В его увлекательном повествовании читатель шаг за шагом проходит вместе с героем путь от детства в любимом и ненавистном Дублине до смерти в охваченной войной Европе, от комедий и драм скитальческой жизни Джойса — к сложным смыслам и аллюзиям, скрытым в его произведениях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возможно, значительнее всего для Джойса в эти дни была убежденность, что его любит Нора Барнакл. Поэтому со всем остальным миром он мог себе позволить быть свирепым и беспощадным. Ему самому были удивительны те чувства, которые Нора вызывала у него. Джойс не стеснялся говорить и писать о своей нежности к ней. Он стал намного ближе с Джоном Фрэнсисом Бирном, забыв историю с той злосчастной парижско-латинско-бордельной запиской, и с ним решил обсудить словесный залп, 16 августа обрушенный на него Норой:
«Мне кажется что я все время в компании с тобой и в любом возможном разнообразии обстоятельств говорю с тобой иду с тобой внезапно сталкиваюсь с тобой в разных местах пока не начинаю думать что душа оставляет мое тело во сне и уходит взглянуть на тебя и даже больше находит тебя или может это только фантазия».
Бирн предположил, что это цитата из письмовника, да еще переписанная безграмотно. Джойс и сам, как учитель правописания, вынудил Нору признаться в шпаргалке, и она согласилась (!) перейти на более простой словарь и естественный синтаксис. Но Джойс увидел в этой попытке воспользоваться более изощренными инструментами тот самый намек на ее аморальность, который после расписал во всей красе.
В конце августа ему выпала наконец удача — дать любимой услышать, как он замечательно поет. Сначала Джойс привел ее на вечерний концерт, где он исполнил песню «Кухулин» на стихи Томаса Мура. Первые строки этой безумно популярной песни опять звучали Джойсу предсказанием, но на сей раз оно было общеирландским:
Затем его пригласили разделить сцену в Эншент-Консерт-рум с самими Джоном Маккормаком и Д. К. Дойлом. Пик его певческой карьеры больше не возносился так высоко. Он порепетировал утро с профессиональной аккомпаниаторшей Эйлин Рейди у нее дома. Там он вел себя развязно и чванливо: когда ее мать спросила, что ему налить для увлажнения горла, чаю или кофе, он ответил запомнившимся «виски». Но к вечеру Джойс разнервничался и предупреждал Нору, чтобы она не приняла это за обычную грубость. Однако Джозеф Холлоуэй описал его победоносное выступление:
«Публики было много, но организация концерта вряд ли могла быть хуже. Ирландские „возрожденцы“ до жалости нуждаются в способном управляющем. Начинают они неизменно со значительного отставания от объявленного времени, пробуждая нетерпение в публике; таким образом они совершенно недопустимо мешают исполнителям. Некомпетентность аккомпаниаторши заставила одного из певцов, м-ра Джеймса Джойса, сесть за пианино и аккомпанировать себе в песне „В простоте своей“, после того как она сделала несколько безуспешных попыток отбарабанить „Сборщика урожая“, заявленного в программе…У м-ра Джойса несильный тенор, который он склонен форсировать на высоких нотах, однако поет он с артистической эмоциональностью».
В этот вечер Джойс выиграл сразу три награды: поспешное отбытие мисс Рейди дало ему завязку сюжета нового рассказа «Мать», «Фрименз джорнел» похвалил его пение («…м-р Джойс, обладатель нежного тенора, чарующе спел „В ивовой роще“») — и Нора Барнакл была просто очарована им. Через много лет она осталась верна этому восторгу и часто говорила, что Джиму надо было остаться в музыке, а не мучиться с литературой. Джойс тоже очень долго расспрашивал ее о том, наслаждалась ли она. Ну конечно — женщины обожают теноров.
Чем теснее становилась их взаимная привязанность, тем острее было его следующее терзание: Джойс раскаивался, что заставил ее поверить в того, кем на самом деле не является. Как-то вечером он описал Норе свою сексуальную биографию — до встречи с ней, разумеется, и Нора вполне предсказуемо была потрясена и встревожена. Так же встревожилась Берта в «Изгнанниках». Ее реакция вызвала у него, как ни странно, прежде всего недоверие, потому что сам-то Джойс верил, что это никак не отражается на его душевной чистоте. Как можно было не отпустить ему грехи, не омыть его состраданием, не разглядеть его истинную натуру!.. В «Изгнанниках» подобное описано замечательной фразой: герой говорит о героине, что «питал пламя ее невинности своей виной». Но Джойс решает идти до конца, и это означает, что Нора, верующая и воцерковленная, должна узнать всё.
Письмо от 29 августа заслуживает быть приведенным целиком.
«Шелборн-роуд, 60.
Моя дорогая Нора,
я только что закончил свой полуночный ужин, хотя аппетита у меня нет. Когда я справился с ним уже наполовину, то обнаружил, что ем пальцами. Меня затошнило — совсем как прошлым вечером. Я совершенно угнетен. Простите мне это жуткое перо и чудовищную бумагу.
Вчера я, наверное, причинил вам боль тем, что говорил, но разве плохо, что вы будете знать мое мнение о многих вещах? Мой разум отвергает весь существующий социальный строй и все христианство — домашний очаг, признанные добродетели, религиозные доктрины. Как я могу любить идею дома? Мой дом — это просто привычка среднего класса, разрушенная мотовством, которое я унаследовал. Мою мать, я думаю, медленно убивала жестокость отца, годы бедствий и циничная открытость моего поведения. Глядя на ее лицо в гробу — серое и истощенное раком, — я понимал, что смотрю в лицо жертвы, и проклинал систему, которая сделала ее жертвой. Семья моя состояла из семнадцати человек. Мои сестры и братья для меня никто. Лишь один из братьев способен понять меня.
Шесть лет назад я оставил католическую церковь, яростно ее возненавидев. Я ощутил совершенно для себя невозможным оставаться в ней по причине порывов моей природы. Я вел тайную войну против нее, будучи школьником, и отказался принимать возможности, предлагавшиеся мне. Поступив так, я сделал себя нищим, но сохранил гордость. Теперь я веду против нее открытую войну тем, что пишу, говорю и делаю. Я не могу войти в социум иначе, чем бродягой. Три раза я начинал изучать медицину, один — право, один — музыку. Неделю назад я договаривался об отъезде в качестве гастролирующего актера. Я не смог вложить достаточно энергии в этот план, потому что вы тянули меня за локоть. Истинные трудности моей жизни невероятны, однако я их презираю.
Когда вчера вы пришли, я брел к Графтон-стрит, где я долго стоял, прислонившись к фонарному столбу, и курил. Улица была полна жизни, несшей с собой поток и моей юности. Пока я стоял, то думал о нескольких фразах, которые записал несколько лет назад, когда жил в Париже, — фразы, звучавшие так: „Они проходили подвое, по трое, среди жизни бульваров, шагая как люди, у которых есть досуг в месте, освещенном для них. Они в кондитерских, они болтают, разрушая крохотные сладкие сооружения, или молча сидят за столиками у дверей кафе, или спускаются по лестницам, одежды издают деловитый шелест, нежный, как голос соблазнителя. Они проходят в облаке ароматов. Под ароматами их тела несут теплый влажный запах…“
Повторяя это про себя, я понимал, что жизнь все еще ждет, решу ли я войти в нее. Ей не удастся, может быть, дать мне то опьянение, какое дала однажды, но оно все равно есть, и сейчас, когда я умнее, но лучше справляюсь с собой, оно будет безопаснее. Оно не задает вопросов, ничего не ждет от меня, кроме нескольких мгновений моей жизни, оставляя другие свободными, и взамен обещает мне наслаждение. Я думал обо всем этом и отверг без сожалений. Для меня оно бесполезно: оно не даст мне то, чего я хочу.
Полагаю, вы недопоняли некоторые строки письма, которое я написал вам, и я заметил какую-то стеснительность в вашем поведении вчера, будто вас беспокоили воспоминания о том вечере. Однако я ощущаю ее как некоторое таинство, и мысли о ней наполняют меня удивительной радостью. Возможно, вы не сразу поймете, почему я так превозношу вас за то, что вы не поняли меня. Но в то же время это было и причастие, оставившее меня в печали завершившегося чувства печали и унижения — печали потому, что я видел вас в необычайной, грустной нежности, с которой вы выбрали это причастие как компромисс, а унижение — потому, что понял: в ваших глазах я опустился до условностей нашего теперешнего общества.