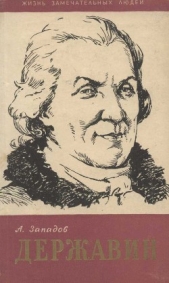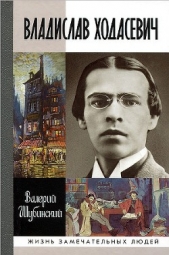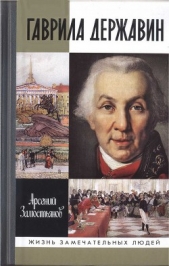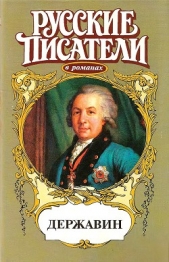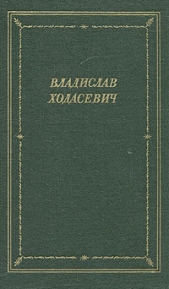Державин
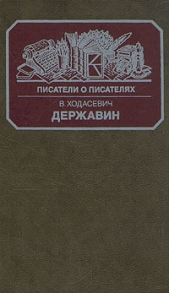
Державин читать книгу онлайн
Книжная судьба В. Ходасевича на родине после шести с лишним десятилетий перерыва продолжается не сборником стихов или воспоминаний, не книгой о Пушкине, но биографией Державина.
Державин интересовал Ходасевича на протяжении всей жизни. Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадлежит «серебряному веку». Из забвения творчество поэта вывели Б. Садовской, Б. Грифцов.
В. Ходасевич сыграл в этом «открытии» самую значительную роль.
Читателю, который бы хотел познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Где только не искали источников, из которых почерпнуты, будто бы, отдельные частности и сама мысль этих стихов! И у Горация, и у Петрова, и в Библии… Не обратили внимания лишь на то, что и мысль, и все замеченные параллельные места (и еще ряд незамеченных) имеются гораздо ближе: в той из Читалагайских од, которая переведена из Фридриха и называется «Жизнь есть сон»: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Лишь только ты родился, уже рок того дня влечет тебя к разрушающей нощи…» Много мыслей и образов перенесено из оды Фридриха в оду на смерть Мещерского, — вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву:
навеянного обращением Фридриха к Мовтерпию [35].
Между Читалагайскими одами и «Одой на смерть кн. Мещерского» нет скачка; есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особливо заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах, родственных стиху Читалагайских од, но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже самая постановка темы замечательна. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю.
Мещерский не был человеком выдающимся. В его лице Державин не оплакивает ни героя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский — просто богач, «сын роскоши, прохлад и нег», ничего больше. Чем чувственней и обильней житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительней выступает предмет всей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти. «Где стол был яств, там гроб стоит»: невозможно сказать общее и в то же время конкретнее; короче — и в то же время сильнее.
Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым. Ходил слух, будто во времена пугачевщины он вешал людей «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Это неверно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательны. Он охотно им предавался — среди счастия и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастие в том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий Державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философствует. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму и с творческим наслаждением выбросил из себя. Таким случаем была смерть Мещерского. Резкие жизненные контрасты прельщали Державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастия писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование прорвалось наружу: недаром в одной из заключительных строф он сказал о самом себе: «Зовет, я слышу, славы шум». То было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордился.
Тогда все поэты служили — звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели, как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом.
Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам: равным образом не смотрел он и на стихи как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.
Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправье, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, — в самом языке его.
На усмирение пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и усмирял ее со всеусердием — по тем же соображениям, и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почуял если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 г.: «Доложить вашему высокопревосходительству смею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что разлияние оной наиболее всего, по моим мыслям, пособствует злу, терзающему наше отечество». Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.
Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж, автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги.)
После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания Читалагайских од Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:
Два года спустя, в «Эпистоле И. И. Шувалову» мысль эта повторена:
Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную: