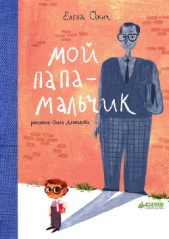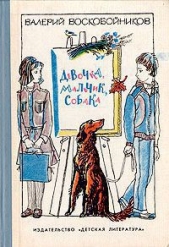Маленькая девочка из «Метрополя»

Маленькая девочка из «Метрополя» читать книгу онлайн
"Маленькая девочка из «Метрополя»" — не мемуары и не попытка после двадцати лет молчания дать интервью. Это просто эссе или новеллы, написанные по разным поводам. Но так получилось, что история жизни автора прорастает сквозь все описанные события.
А повесть, давшая название сборнику, — это то, с чего обычно начинали классики. Повесть о детстве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошло много лет, и вдруг звонок:
— Люся, это Макс Гинденбург. Как ты?
— Ничего, а ты? — на правах старого товарища отвечала я.
— Понимаешь, я написал тут рассказ…
Шли годы, он писал, я читала. Потом нашлось издательство, которое собралось выпустить целую книгу Максовых рассказов. Мы вступили в переговоры с редактором. Она попросила предисловие. Я его представила. Но издательство лопнуло.
Он писал, очень болел, но превозмогал себя и работал. По натуре Макс спокойный оптимист. Он был другом разных людей, в том числе главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова — всю его жизнь. Софронов, одиозная фигура, этот известнейший антисемит и ретроград, самый большой враг прогресса, оказывается, был добрым и щедрым человеком для своих старых товарищей, да и для сотрудников. Я теперь уговариваю Макса написать подробные мемуары.
Тексты Макса самые простые, и все в них правда. Ну не врет человек, не та порода.
И теперь я решилась представить на суд публики моего коллегу, Макса Ефремовича Гинденбурга, фронтовика, писателя, журналиста из наших родных «Последних известий» Всесоюзного радио.
Как предполагалось, с предисловием (вы его сейчас прочли, но оно за ненадобностью с годами выросло, так уж я его и печатаю) и, теперь, с самой сутью: с рассказами Максика.
Не судите нас строго: Максу 92 года. Он молодой автор.
Он моя находка.
P.S. Рассказы М.Гинденбурга были опубликованы в журнале «Октябрь» № 11, 2004 г.
На тему о вдохновении [1]
Было дело, что текст рассказа являлся мне в полном виде. То есть начинала звучать первая строка со своим ритмом (обязательно), и важно было иметь при себе ручку и бумагу. Один раз в метро я медленно продвигалась в толпе на пересадку, и пришел в голову полный текст. Вернее сказать, я не заглядывала за первую фразу, нужды не было. Знала, что стоит потянуть за эту нитку, клубок сам начнет разматываться до конца.
Пошарила вслепую в сумке, ручка не нашлась. Первая фраза гудела в голове, я ее специально удерживала на одной ноте, не давая ей двигаться дальше.
Кое-как выбравшись из толпы, я перетрясла всю сумку. Ручки не было! Вот это было настоящее отчаяние.
Музыка кончилась. Упустила.
Дома я кинулась записывать, но вынуждена была оставить эту затею, рассказ растаял. Всю ночь промучилась. На следующий день на работе я пошла в библиотеку и заставила себя вспомнить. Однако это было уже не то (речь идет о рассказе «Грипп»).
С тех пор я панически боюсь остаться без ручки и бумаги, и своим студентам всегда говорю: мысль приходит только один раз, больше она не явится, и ее надо записать обязательно. Не важно, одна ли это будет фраза или полный сюжет, воспоминание, навеянное чьим-то лицом, музыкой, словом или запахом, как у Пруста (почему у него аромат пирожного «Мадлен» — астматики очень остро чувствуют все запахи).
Рассказ приходил, например, при виде лица в толпе («Сирота»), я написала текст в магазине на Пушкинской площади, рядом с тем местом, где увидела какого-то человека, до ужаса похожего на моего недавно умершего приятеля, Эдика Крылова. Как будто мертвый ожил! Я обошла его с другой стороны — нет, щеки не такие. Тут же писала рассказ, прижав бумагу к стене. Или в музее (на выставке работ Репина в Питере была его малоизвестная картина, какие-то девушки в лодке — и я увидела лицо моей подруги, которая все последние годы была на грани самоубийства, Л. У нее было лицо красавицы начала века — у Репина это тоже была красавица. Самый ужас заключается в том, что, может быть, она погибла именно в этот день, когда явилась мне. Вскоре я узнала о ее смерти, сердце Л. не выдержало большой дозы лекарств. Но рассказ я писать в тот момент не стала, потому что мне явился сюжет об уже умершей женщине, а стыдно было писать о Лене как об умершей, она еще была для меня жива. Именно стыдно, позорно. Как это у орлов принято кружить над умирающим. Меня буквально обожгло стыдом у этой картины).
Так что рассказы приходили мгновенно, надо было только их быстро, как можно быстрее, записывать. В дальнейшем, уже теперь, я стала понимать, что, возможно, это были прастихи, первоначальная форма дальнейшего верлибра. Все указывает на это — возвышенность тона, некоторая как бы внутренняя декламация в каком-то ритме, даже повторы одного слова в конце. Почти полное отсутствие диалогов. И то, что это был единственно возможный вариант — я потом почти не правила свои тексты, только стилистические ошибки. И если рассказ терялся, я не успевала его записать, то другой вариант был непереносимо ниже уровнем.
Так все и шло, я писала свои присланные мне готовыми рассказы (многие авторы говорили о том, что есть впечатление, что им диктуют).
Пока однажды мне не надоело. Это же был почти механический процесс — быстро записать. Гудящая голова, всплывшая в памяти история, скорее всего ужасная, надо быстро освободиться от нее, хватаешься за любую бумажку, ручку, пишешь сразу — и рассказ готов.
Хотя иногда я даже плакала в конце, потому что было безумно жалко своих героев. Чаще всего я и писала от жалости. То есть это была не совсем автоматическая запись. Но тогда я подумала, что наработанное ремесло мне мешает, все повторяется, все одно и то же, удар, воспоминание, слезы, ручка, бумага, быстрое письмо, и надо от этого уходить, потому что есть опасность самоповторения.
Позже я узнала, что китайские и японские мастера акварели, достигнув определенной степени мастерства, уходили от самих себя, меняли имя, способ рисования, даже руку — правую на левую, только чтобы избавиться от наработанной манеры, от скуки умения.
И я перестала записывать. Когда оно приходило, я думала: а, ладно, хватит. Не буду.
Может быть, я так поступала еще и потому, что мои рассказы не печатали и надежды на это не было. Ну еще одной штукой больше, что это изменит.
Мало того, этот стиль, этот синтаксис, построение фраз, длинные пассажи — все это было довольно легко повторить, поймать эту манеру. Все стильное легко пародируется и тиражируется. И я однажды прочла у одного писателя буквально свой абзац. И остолбенела от горя, как жена Лота, оглянувшаяся на свой сожженный город. Меня не печатали, но мои рассказы ходили по редакциям в рукописях.
И я сменила руку — начала писать пьесы. Потом пошли сказки, потом стихи, потом я вернулась к рассказам, но они стали немного иными, уже с диалогами.
Потом я сменила руку опять, началось время верлибров. Да они давно у меня были, только я не догадывалась. Один рассказ я сначала написала прозой, а потом увидела, что это стихи (глава из Карамзина «Мамонька мамка»).
Это мне очень интересно — борьба человека со своим вдохновением, уход от диктовки.
Никогда не чувствовать себя умелым мастером.