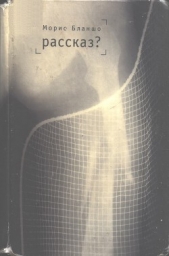Мишель Фуко

Мишель Фуко читать книгу онлайн
Мишель Фуко (1926 — 1984) один из наиболее влиятельных мыслите лей второй половины XX века. Испытав множество идейных и культурных воздействий, он сумел найти свой неповторимый стиль мышления и свою тему изучение отношений личности с обществом, в том числе с такими общественными инститyтами, как психиатрия, медицина и тюремная система.
Oтвергая любые формы подавления личности, Фуко активно протестовал как против коммунизма, так и против демократии западною типа. rромкая известность философа привела к тому, что ею книги вышли за гpaнь «чистой науки», став подлинными интеллектуальными бестселлера ми на Западе, а затем и в России.
Первая выходящая по русски биогpафия Фуко принадлежит перу известною историка философии Дидье Эрибона. Мноrочасовые беседы с гepoeм книrи позволили автору осветить не только творчество французскою мыслителя, но и ero тщательно скрытую от посторонних и окруженную слухами личную жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В XVII веке ситуация меняется: безумие оказывается вышвырнутым из жизни и отмеченным клеймом проклятия. Это событие, которое Фуко называет «классическим», имеет два «аспекта». С одной стороны, безумие отвержено высочайшим мановением разума, обрекающим его на изгнание и молчание в соответствии с прагматической формулой Декарта «это всего лишь сумасшедшие», выведенной в первой части «Метафизических размышлений», где он воссоздает и отвергает основы возможного сомнения касательно истин, представляющихся разуму чем-то совершенно очевидным [160]. Человек может оказаться безумным, но это безопасное для разума безумие. С другой стороны, безумие запирается под ключ, попадает в заточение. И тут экономические, политические, моральные или религиозные обоснования работают в полную силу: «великому заточению», ознаменовавшему XVII век, подвергнутся нищие, безработные, попрошайки, бродяги, к которым присоединятся либертины, венерические больные, гомосексуалисты; все они окажутся в стенах приютов наряду с теми, кто утратил разум. Фуко полагает, что «безумие поселяется по соседству с грехом, и, быть может, именно поэтому неразумие на века породнится с виной: в наши дни душевнобольной ощущает это родство как свою личную участь, а врач открывает его как естественнонаучную истину» [161]. Мы прошли путь от безумия к неразумию, от эпохи, когда безумие стояло особняком, к эпохе, когда оно растворилось среди пороков, подлежащих изоляции с целью «исправления». Ибо дисциплинарные учреждения организуются ради наказания тех, кто вместе с прочими попадает в него, а не для врачевания.
Однако, обозначив тех, на кого налагается печать проклятия, и очистив от них общество, исполнители «великого заточения» сыграли не только негативную роль. Изоляция «образовала определенную сферу человеческого опыта», поскольку «в ее единообразном пространстве пришли в соприкосновение такие категории людей и такие ценности, между которыми культура предшествующих эпох не усматривала ни малейшего сходства; она незаметно придвинула их к безумию, подготовив тем самым новый его опыт — наш опыт, — в рамках которого ценности эти заявят о себе как о неотъемлемой принадлежности сумасшествия» [162].
С другой стороны, неразумие в своем конкретном проявлении локализовано и очищено. Оно может стать «предметом восприятия». И тут мы подходим к одному из ключевых положений книги Фуко: «Но каков горизонт этого восприятия? Очевидно, что он совпадает с горизонтом социальной действительности. Начиная с XVII века неразумие перестает неотступно преследовать мироздание; оно не выступает больше и естественным измерением разума во всех его перипетиях. Оно приобретает характер явления сугубо человеческого, какой-то стихийно возникшей разновидности среди прочих социальных видов. Прежде оно было неотвратимой угрозой, заключенной в мире вещей и в языке человека, в его разуме и его земле; ныне оно предстало в виде некоего лица. Вернее, лиц: людей, отмеченных неразумием, типажей, распознаваемых обществом и подвергаемых изоляции — развратника, расточителя, гомосексуалиста, колдуна, самоубийцы, либертина. Впервые мерой неразумия становится определенное отклонение от социальной нормы. <…> Вот это и есть самое главное: то, что безумие внезапно оказалось перенесено в сферу социального и отныне будет проявляться преимущественно и почти исключительно здесь; то, что ему, бродившему прежде во всех пределах, тайно обитавшему в самых привычных местах, вдруг, едва ли не в одночасье (менее чем за полвека во всей Европе), отвели особую область, где всякий может его распознать и разоблачить; что с той поры его, словно нечистую силу, стало возможным разом изгнать из каждого конкретного человека, в которого оно вселилось, с помощью мер и предосторожностей правопорядка». Фуко ставит вопрос так: «Разве не существенно для нашей культуры то обстоятельство, что неразумие смогло сделаться для нее объектом познания лишь постольку, поскольку предварительно стало объектом отлучения?» [163]
Однако внутри созвездия неразумия безумие постепенно завоюет совершенно особое место. Поскольку в конце концов встал вопрос об экономической целесообразности изоляции социально проблемных индивидуумов и о том, не лучше ли отправить на рынок труда всех тех, кто способен работать. Разве можно победить нищету путем ее изоляции? И, как только этот шаг сделан, безумие оказывается отделенным от последней из всех форм неразумия, с которыми оно еще недавно делило обитель. Оно одно останется в заключении, утратив своих сокамерников. Безумцы окажутся наедине с врачами, которые вплотную займутся ими. И тут происходит рождение психиатрических больниц, превращение мест заключения в медицинские учреждения. Безумие стало классифицироваться как «душевное заболевание». Сумасшедшие отныне освобождены от оков, однако следует остерегаться наивного принятия мифологии позитивизма, воспевающей достоинства такого освобождения и приписывающей их собственным заслугам: «Лечебница эпохи позитивизма, заслуга создания которой приписывается Пинелю, — это не пространство свободы, где наблюдают больных, ставят им диагноз и проводят терапию; это пространство правосудия, где человека обвиняют, судят и выносят ему приговор и где освобождение достигается лишь через перенос судебного процесса в глубины собственной психологии, то есть через раскаяние. В лечебнице безумие будет наказано — пусть даже вне лечебницы оно признано невиновным. Отныне безумие надолго, во всяком случае, до наших дней, заточено в тюрьму морали». Фуко добавляет: «Считается, что Тьюк и Пинель открыли медицинской науке доступ в психиатрическую лечебницу. Однако они ввели в лечебницу не науку как таковую, а определенного персонажа — носителя сил, заимствующих у науки всего лишь ее внешнюю оболочку либо, самое большее, свое оправдание. <…> Врач способен очертить границы безумия не потому, что обладает знанием о нем, а потому, что может его обуздать; позитивизм будет воспринимать как объективность всего лишь другую сторону, противоположный скат этого превосходства медика над больным» [164].
Хотя медицина постоянно празднует свои теоретические победы, партия еще не сыграна. Ибо, как считает Фуко, лечебница, созданная Пинелем, не в состоянии избавить современный мир от безумия. Пусть безумие «не является больше ночью, противостоящей дневному лику», став наблюдаемой реальностью, о которой нормальный человек изрекает истину — следует признать, что эта истина идет вслед за безумием: «В наши дни человек обладает истиной лишь в загадке безумца, каким он является и каким не является; каждый безумец несет и не несет в себе эту истину человека, которую он обнажает самим упадком своей человечности». Иначе говоря, человек и безумец «связаны неощутимыми узами присущей им обоим и несовместимой истины». А кроме того, необходимо услышать тех, к кому в тот момент, когда неразумие приговаривается к исчезновению, переходит факел. Факел тьмы, ночи, безбрежного отрицания. Вот Гойя с его образом безумия, глубоко чуждым современному опыту, разве он не «передает тем, кто способен услышать и понять — Ницше и Арто, — едва различимые речи классического неразумия, речи небытия и ночного мрака, — но усиливая их, доводя до вопля и буйного неистовства? И быть может, именно оно впервые наделяет их неким выражением, дает им право гражданства и известную власть над западной культурой — власть, благодаря которой становятся возможны все отрицания ее, и тотальное отрицание? Быть может, оно возвращает им всю их дикую первобытность?». И у Гойи, и у Сада «неразумие по-прежнему неусыпно бдит в ночи, но в бдении своем оно соотносится с новыми, нарождающимися силами». Благодаря Гойе и Саду «западный мир вновь обрел возможность перейти черту разума в неистовстве насилия и, минуя все обетования диалектики, вернуться к трагическому опыту безумия».