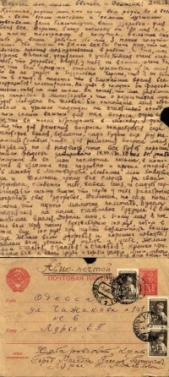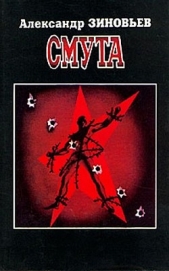А внизу была земля

А внизу была земля читать книгу онлайн
«А внизу была земля» — третья книга Артема Анфиногенова, в которой углубленно раскрывается главная тема писателя, наметившаяся в прежних его работах: «Земная вахта» и «Космики» — тема ратного подвига советских людей в годы Отечественной войны. Герои настоящей повести — фронтовые летчики, изображенные в момент высшего драматизма, продиктованного войной, их беззаветный труд во имя победы. Жизненный материал, как всегда у этого автора, документален, но взят он в данном случае не из вторых рук или чьих-то воспоминаний, овеянных дымкой времен, а собран, выношен, осмыслен бывшим летчиком-штурмовиком на боевых путях 8-й воздушной армии, шедшей от донских степей и Сталинграда к Севастополю…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все дальнейшее он проделал с отчаяньем ускользающего из западни: волчком развернулся на сто восемьдесят градусов, застопорил костыль и газанул на взлет — в лоб садящимся братским ИЛам, чудом с ними не сталкиваясь. Этот вопиющий, с точки зрения правил, но единственный, на его взгляд, спасительный маневр он осуществлял быстро, уверенно, без размышлений, испытав мгновенное и острое предощущение удачи — знакомое, редкое чувство, которое и впредь ему поможет.
Он не опоздал, успел на свой аэродром, приземлился одновременно со своей шестеркой. Но Комлев все видел.
«Обрадовался?» — спросил командир эскадрильи. «Обрадовался!» подтвердил он (рот до ушей). «Ничего этого не было, — тихо сказал Комлев, поглядывая по сторонам, а он с готовностью ему поддакивал. — Не рассчитал, ушел на второй круг, сел замыкающим… ясно?» — «Ясно!» — подхватил он как заговорщик. Комлев как будто покрывал его, подсказывая версию, коей следует держаться в случае вызова на КП. Как будто так; Силаев видел, однако, что капитан сыт его художествами, что все это может плохо для него кончиться, а его распирало прекрасное, только что испытанное предчувствие, он в него верил, ничего не страшился. Подкатил «виллис» с охрипшим посыльным: «Комэска Комлева и летчика Силаева — на КП!.. Звонок от соседа!.. Ругается сосед!» Чего и следовало ожидать.
Комлев молча опустился рядом с шофером, молча указал Силаеву на место сзади, «виллис» рванул, не дожидаясь, пока летчик усядется, но и этот рывок, и кара, нависшая по его вине над ним и капитаном, не заглушали возбудившейся в нем веры в благополучный ход событий. И что же?
На полпути к КП все изменилось: стоп, «виллис»! В чем дело?
Сейчас же назад, на стоянку, к подсолнухам! Пулей к самолетам, вылет по ракете!
Ракеты, однако, пришлось ждать долго, нервное напряжение не спадало: то штурман дивизии проверял знание курсов и расстояний, то летчиков вновь собирали в кружок, и командир полка, подкативший на «виллисе», предостерегал: «Комлев, работу ИЛов с земли наблюдает представитель Ставки!»
Все это, несмотря на то что о посадке на соседнем аэродроме — ни звука, понемногу вытрясало из Бориса обретенный утром оптимизм.
Они сидели на чехлах комлевской машины, все уточняя, выверяя начертание линии фронта, ежечасно менявшееся.
Собственно, вникал в ее неспокойные изгибы Комлев, с терпеливым старанием подчищая и заново расцвечивая каждый выступ, каждую вмятину красно-синей линии, а он, Силаев, примостившись сбоку, глазел в поддуваемую ветерком карту командира, механически ее копировал. За его, Силаева, спиной с карандашом и розовым шариком школьной резинки наготове, то привставая, чтобы тоже видеть линию фронта, то приседая, ноги калачиком, посапывал Конон-Рыжий. Повторяя на своем листе рисунок командира, Силаев ждал одного: где, в какой точке остановится остро отточенный карандаш капитана? Куда их пошлют? На балку Ольховчик? На Снежное?..
И Снежное, и балка Ольховчик, и Саур-Могила — ключевые позиции немцев по миуескому рубежу, но худшим из трех вариантов был для Силаева один.
«Только бы не туда», — думал он.
Не на Саур-Могилу, где двадцать седьмого числа разверзлась перед ним иссиня-черная и голубая пропасть Миуса… Быстрые, слишком скорые мгновения над ней были не стычкой, но схваткой. Первым воздушным поединком, где он уже не был скован, не служил мишенью, знал, что делать, у него даже возник какой-то план, и все могло бы повернуться иначе, поддержи его Конон-Рыжий, вовремя обеспечь огнем. Но хвостовой пулемет молчал.
Неясность, не поддающаяся разумению летчика двусмысленность вкралась в последние секунды боя, в его раэвязку, когда Борис выбрасывался с парашютом.
Фронтовая жизнь, исполненная риска, была в тыловых представлениях Силаева тем хороша и желанна, что несла с собой избавление от всяческих постромок и опек. Еще в курсантской курилке привлекала Силаева и многими живо обсуждалась такая подкупающая мелочь фронтового быта, как общение летчиков между собой не по званию или фамилии, а посредством невесть откуда взявшейся сокращенной формы; например, ДБ — так называли друзья летчика-истребителя Дмитрия Борисовича Глинку, прославленного аса; ББ — так обращались к его однополчанину, старшему брату Борису Борисовичу. И выдумка тут, и улыбка, и фронтовая вольность… Надо ли удивляться, что по прибытии на Миус Силаев сейчас же прослышал краем уха о какой-то уловке, проделке, будто бы предпринятой в разгар кубанского сражения старшим из братьев, ББ, чтобы попасть из тыла на Кубань, где действовал полк младшего, ДБ…
БС — тоже звучало не плохо.
Дело оставалось за малым: чтобы такое обращение получило признание, права гражданства. Чтобы возможности, которые он в себе чувствовал, самостоятельность, которую оп развивал, вышли, наконец, наружу, оставили след по себе… в виде пока безвестного сокращения «БС», что ли…
Помереть, погибнуть, ничего не сделав, никак не проявившись?
В горьких размышлениях об этом он еще до армии, на крышке школьной парты перочинным ножом вырезал три слова: «Россия, милая Россия…» Никто из активистов десятого «Б» не вздумал прорабатывать Бориса за порчу казенного имущества. Посоветовали закрасить остро белевшую строчку, чтобы не так бросалась в глаза. Он закрасил, затушевал, — с товарищами Борис всегда ладил. Но завуч — историк, прежде его не замечавший, прицепился. «Это не случайная выходка Силаева», — заявил он. Сердечный вздох тугодума был истолкован завучем как проявление скрытого анархизма, как склонность к беспочвенному пессимизму, «который может завести далеко не в ту сторону». Силаев выслушивал все это с интересом. «Выходка!» — настаивал завуч на обсуждениях, значительно намекая на некий уловленный им в умонастроениях юноши подтекст, — чего Силаев не желал уже ни слушать, ни сносить. Конфликт, надолго затянувшийся, ничем не кончился…
И в летной школе Силаев никому и ничего не доказал, хотя и пытался. Словарь блюстителей армейского порядка довольно скуп, но для свежего человека с «гражданки», вчерашнего десятиклассника, в нем много неожиданного. «Курсант Силаев разгильдяй!» — схлопотал он перед строем за плохо прибранную тумбочку. Не показав обиды, в спокойных выражениях Силаев взялся было разъяснять, какое это заблуждение: он из учительской семьи, где с детства приучают к порядку, и никто, никогда не называл его разгильдяем… не убедил. С кем ему особенно не повезло, так это с инструктором. Его инструктор Заенков был тем в жизни счастлив, что не опоздал, успел, выскочил из военной школы лейтенантом, получил лейтенантское обмундирование, лейтенантские знаки различия за день до приказа наркома обороны, по которому военных летчиков по окончании курса стали аттестовать как младших командиров, присваивая им звание «сержант». Год, как работал Заенков инструктором, а все не мог успокоиться, унять своей радости, сам говорил, что просыпается по ночам и, не веря себе, ощупывает ворот гимнастерки, красные квадратики на нем, «кубари». Ретиво занимался спортом, спринтом, получал призы и грамоты. На разборы полетов с курсантами являлся одетым с иголочки. Тонкая кожа белесого, тщательно промытого лица пылает от ветра и солнца, бровки домиком слегка подбриты, от густых светлых волос, разделенных пробором, отлетает стойкий парфюмерный запах (инструктора за глаза звали Душистым). Лучшие часы Заенкова были, конечно, в воздухе, где так зримо проявлялось его превосходство над теми, кто, как его ученики-курсанты, подпали под приказ и кому теперь до лейтенантского чина служить, как медному котелку. Прежде чем сесть в кабину «р-пятого», Заенков обмахивал бархоткой пыль с надраенных сапожек, натягивал перчатки желтой кожи, потом прикреплял у себя на груди резиновый раструб переговорного устройства, «матюгальник», от которого в воздухе не отрывался, — матерщинником молодой инструктор был ужасным. Курсант человек подневольный, что ему остается: либо терпит площадную брань, либо старается ее не замечать. Силаев по натуре не кисейная барышня, и не подзаборная ругань сама по себе убивала его, а вот это желание унизить тех, кто и так лейтенанту не ровня, насладиться превосходством счастливчика… На беду Силаева, в нем что-то устроено так, что всякая обида, несправедливость, оскорбление вызывают в нем оцепенение. Потом он соберется, ответит, даст отпор, но первая реакция — боль бессилия, оцепенение. «Выбирай стабилизатор!» — орал на него из своей кабины Заенков, немыслимо изощряясь и не подозревая последствий, глубины обратного эффекта, силы тормоза, приведенного им в действие. Заенков бесновался, Силаев, сидя болван болваном, раз за разом повторял одну и ту же ошибку. Когда он ошибся в энный раз, Заенков, доведенный тупостью ученика до белого каления, двинул от себя штурвал сдвоенного управления так, что костяшки правой кисти, которой Силаев держал штурвал в своей кабине, расшиблись о стенку бензобака в кровь. На земле Заенков подлетел к нему, чтобы излиться до конца. Стоя навытяжку перед инструктором с глазами, полными слез, Силаев, стараясь говорить твердо, заявил: «Я с вами летать не буду!» — «Будешь, трам-тарарам! — заходился в крике Заенков, удивляясь слезам курсанта и не понимая их. Еще как будешь, трам-тарарам! Сначала сто посадок посмотришь, одну запишешь себе, а потом я подумаю, допускать тебя к полетам или нет!..» Все было так, как сказал Заенков. Из стартового наряда «махала» Силаев не выбирался, летал урывками, перебиваясь с хлеба на квас, по всем элементам летной практики Заенков выставил ему «четыре», что означало профессиональную непригодность, необходимость отчисления… а ведь шла война. Может быть, потому и не отчислили, что война: средств и сил на подготовку летчика было затрачено немало. Не отчислили, допустили к полетам на СБ — с другим инструктором. «И отец учитель, и мать учителка?» — встретил его новый инструктор. Курсанта Силаева никто об этом не спрашивал. Между тем в обращении инструктора были наивность и удивление, знакомые Борису с детских лет, по пионерским лагерям, где его всегда расспрашивали об этом новые приятели; вопрос вернул его в дом, в их семью, где в последние годы, несмотря на стычки с отцом, складывалась вокруг него атмосфера внимательности и заботы, как это часто бывает вокруг единственных сыновей, подающих надежды. Штатный «махала» как-то приободрился, повеселел; с той встречи, с того вопроса началась в жизни Бориса новая, светлая полоса. Его новым инструктором был лейтенант Михаил Иванович Клюев…