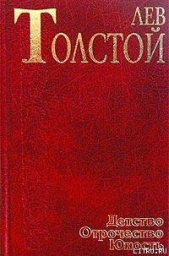Л. Н. Толстой в последний год его жизни

Л. Н. Толстой в последний год его жизни читать книгу онлайн
В. Ф. Булгаков (1886–1966) был секретарем Л. Н. Толстого в последний год его жизни (1910). Книга представляет собой дневник В. Ф. Булгакова, который он вел все эго время, и содержит подробное и объективное описание духовных исканий Л. Н. Толстого этого периода, изображение драматических событий последнего года жизни писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рано утром ушел из Ясной Поляны. Прекрасное утро. Весна здесь восхитительная. Она нынче и вообще хороша, но среди такого живописного уголка, как Ясная, прелести ее выигрывают стократ.
Вечером, однако, мне снова пришлось быть у Толстых с Левой Сергеенко и Димой.
Отнес Льву Николаевичу взятые, по его просьбе, в Телятинках книжки о пьянстве для посылки на один завод, для распространения среди рабочих.
Был сегодня у Льва Николаевича один екатеринославский крестьянин Ипатов, бывший старообрядец, который очень ему понравился. Приходил он по личному делу, но человек сам — религиозный.
— Эти староверы всегда такие твердые, — говорил про него Лев Николаевич.
Сегодня Лев Николаевич ответил и Градовскому, в том смысле, что объединению писателей он сочувствует, но в съезде сам, если бы даже был здоров, не стал бы принимать участия, так как для этого надо было бы вступать в сделки с правительством.
С полчаса он поговорил наедине с мальчиком Сергеенко.
Потом в зале зашла речь о поэзии и поэтах. Кто‑то высказал мнение, что увлечение декадентством скоро пройдет.
— Не думаю, — сказал Лев Николаевич. — Тут, — продолжал он, — какой‑то сатиризм, нежелание признавать какие бы то ни было старые формы.
Дима спросил мнение Льва Николаевича о том, можно ли употреблять при работе животных: лошадей, например.
Лев Николаевич высказался в положительном смысле.
— Если бы человек очутился на необитаемом острове, как Робинзон Крузо, — говорил он, — то тогда ему нужно было бы поймать дикую лошадь, приручить ее, а ведь теперь она есть.
И еще категоричнее заявил Лев Николаевич, что всякое правило, всякая буква мешает свободному развитию, что он — враг всякого доктринерства.
Читал потом вслух последнее письмо Молочникова [134]. Мне дал три письма для ответа.
Курьез: сегодня через нашу станцию (Ясенки) пришло ко Льву Николаевичу письмо с таким адресом: «В Санктпетербург. Его В. А. Н. Господину Толстому, в Красной Поляне, Соб. Имение». Письмо прислали Льву Николаевичу, и, действительно, оно оказалось адресованным именно ему.
Вечером Лев Николаевич просмотрел написанные мною письма, причем к одному (Рубану, о перемене внешних условий жизни) сделал большую приписку, распространив мою мысль, выраженную в письме [135].
Это было в кабинете.
Лев Николаевич склонился к столу и точно забыл о моем присутствии. Я стоял около, ни звуком не нарушая тишины. Невысокая, кургузенькая керосиновая стеклянная лампа под белым абажуром скромно стояла на выдвижной доске рабочего столика и светила Льву Николаевичу. Он, нахмурив брови, писал. Написал одну страницу и, не приложив промокательной бумаги, перевернув листок прямо свежими чернилами на стол, стал писать другую. Сидит и вдруг громко вскрикнет, не подымая глаз от письма: «Ах!» Что‑нибудь не удалось — поправит, сделает вставку и опять пишет. Между прочим, вскрикивает так он часто за шахматами.
— Это пустяки, это не нужно копировать, так послать, — говорит он по окончании писанья.
Но не копировать жалко, и после возишься около пресса [136].
Лев Николаевич вынул блокнот и, как всегда, прочел записанное на память относительно той работы, какую он мог бы мне поручить.
— Да! — вспомнил он. — Возьмите у Тани мысли Лескова. Я хочу поручить вам выбрать из них особенно яркие и новые мысли о неделании, чтобы дополнить свою книжку. И другие тоже выбрать, которых у нас не встречалось, и включить в другие книжки [137].
Мысли Лескова я взял у Татьяны Львовны.
За чаем Лев Николаевич спросил о Леве Сергеенко:
— Ковыряется в земле?
— Да.
Заговорили об этом мальчике. Родители хотят отправить его в Иркутск, к родственникам, и там отдать в гимназию, а он хочет остаться у нас, в Телятинках, как ему предлагал В. Г. Чертков, и ни в какую школу не поступать.
Софья Андреевна и Татьяна Львовна говорили, что теперь‑де ему есть чем жить, но что будет потом, чем он будет заниматься? А я возражал, что человек всегда найдет себе работу, в крайнем случае какую бы то ни было, — стоит лишь сократить свои потребности [138].
Лев Николаевич слушал и, кивая головой, говорил:
— Да, конечно, конечно, как же не найти!..
И он рассказал об общежитии для старых литераторов, их жен и детей, устраиваемом в сельце, принадлежавшем Пушкину, в глуши, за несколько Берет от железной дороги [139], туда нужен заведующий, наверное интеллигентный человек; и вот кто‑то из устроителей говорил Льву Николаевичу, что на это место пойдет разве тот, кому больше некуда идти.
Таким образом, вот уже одно место и есть для того, «кому идти некуда». Но, кроме того, ведь Сергеенко приучается к физическому труду.
И тотчас, кончив говорить о пушкинском приюте для литераторов, Лев Николаевич передал своими словами содержание рассказа С. Т. Семенова «Хорошее житье» — о мужике, сделавшемся швейцаром в богатом доме, отучившемся от настоящего тяжелого крестьянского труда, потерявшем затем свое место и мало — помалу спившемся и погибшем.
Лев Николаевич прекрасно передал все это. Он говорит очень плавно, совершенно не путаясь в выражениях, не запинаясь, выделяя иногда характерные художественные подробности и даже артистически передавая речь отдельных лиц.
Не знаю по какому поводу, вспомнил Лев Николаевич о посетившей его сегодня неизвестной барышне.
— Такая молодая, веселая. Хорошо одета. Цепочка на шее, и на руке тут какая‑то цепочка, дорогая видимо. Говорит, что она хочет помочь народу, открыть новую школу, совершенно новую, по новой программе, но что у нее не хватает только образования и денег. И вот она хочет получить образование, а денег, конечно, просит у меня. Я говорю ей: какая же у вас программа? Она начинает рыться, вынимает какую‑то тетрадь, и вот оттуда высыпается масса разных бумажек!.. Она собирает их, начинает читать. Я думал, долго будет читать. Ну, думаю, выслушаю. А она показывает, — смотрю, на бумажке написано синим карандашом «Закон божий, история, география» и так далее, и так далее. (Лев Николаевич засмеялся. — В. Б.) Я и говорю, что не могу ей помочь. Она не особенно смутилась и отвечает: «Тогда дайте ваш волосок!»
— Что?! Что такое? Волосок?! — перебили тут все Льва Николаевича.
— Да, да!.. Волосок, мой волосок! — залился вместе со всеми смехом Лев Николаевич.
— Ну, я ей говорю, — продолжал Лев Николаевич, — что волосок я ей давать не желаю…
Был еще сегодня у Льва Николаевича вице — президент петербургского отделения Общества мира [140]. Этот, как выразился Лев Николаевич, оказался еще менее способным понять его доводы, чем описанная выше барышня.
— Хороший сегодня вечерок был, — проговорил со своим невозможным словацким акцентом милый Душан Петрович, проходя мимо, уже после того, как все разошлись.
Начав вчера просматривать «мысли Лескова», я пришел к результату довольно неожиданному: мысли эти, столь умилявшие Льва Николаевича, оказались, по разным несомненным признакам, принадлежащими не Лескову, а самому Толстому. По — видимому, взяты они были из записной книжки Лескова, куда тот просто заносил нравившиеся ему мысли Толстого. По крайней мере я мог указать даже те отдельные сочинения Толстого, из которых эти мысли были взяты.
Я рассказал сегодня об этом Льву Николаевичу. Он принял мое сообщение вполне спокойно и просил все- таки, чтобы я включил в разные книжки «Мыслей о жизни» те мысли из лесковской тетради, каких в «Мыслях о жизни» еще не встречалось.