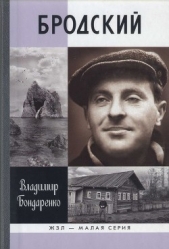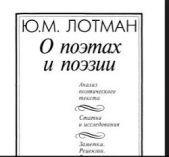Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]
![Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/125908/125908.jpg)
Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] читать книгу онлайн
Бенгт Янгфельдт — известный шведский писатель, ученый, автор многочисленных трудов по русской культуре, переводчик и издатель. Он выпустил впервые на русском языке переписку В. Маяковского и Л. Брик, написал книги о Маяковском и о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне, недавно подготовил исторический труд о Петербурге. А еще Бенгт Янгфельдт был издателем и основным переводчиком на шведский Иосифа Бродского. Они часто встречались на протяжении многих лет, так как, став в 1987 г. Нобелевским лауреатом, поэт приезжал в Швецию каждое лето, найдя здесь, по его словам, «экологическую нишу — тот же мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака», что и на вынужденно покинутой родине.
* * *
Это книга, которую должны обязательно прочесть не только те, кто интересуется Иосифом Бродским, но также те немногие, кто интересуется поэзией. — Dagens Nyheter
* * *
Книга имеет скромный подзаголовок «Заметки об Иосифе Бродском», но именно благодаря ненавязчивости подхода, а также открытости автора к пониманию поэта, она помогает читателям глубже разобраться в противоречиях его характера и мышления. — Svenska Dagbladet
* * *
Бенгт Янгфельдт — шведский писатель, ученый-славист, переводчик русских поэтов (В. Маяковского, О. Мандельштама и др.), лауреат премий Фонда культуры Лэнгмана, Шведской академии и дважды лауреат премии Стриндберга («шведского Букера»). А еще Б. Янгфельдт был многолетним другом, переводчиком и издателем И. Бродского. Эта книга, по словам автора, — «заметки о большом поэте и противоречивом человеке», знакомство с которым дало возможность увидеть важнейшие черты его личности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спокойно и уверенно Иосиф чувствовал себя только в своих четырех стенах или вместе с людьми, которых хорошо знал и которым доверял. В чужой обстановке он испытывал неловкость и «немедленно начинал излучать беспокойство, мучительное и для него, и для всех, — вспоминает Кейс Верхейл. — Если он тогда начинал говорить, то часто громко и агрессивно, словно им владело чувство, что его загнали в угол. Или пускался в словесные игры, делая никакое общение невозможным. Если над его шутками никто не смеялся, он сам, чтобы заполнить тишину, произносил, пожимая плечами: „А по-моему, смешно“». Я и сам не раз был свидетелем подобных случаев.
Спокойным и уверенным, как в своих четырех стенах, Иосиф бывал в семьях близких друзей — возможно, потому что большую часть жизни он прожил без собственной. Его близкий друг Диана Майерс высказала мысль, что его «преклонение перед институтом семьи», его «поистине библейское уважение к семье, к семейным устоям» были в нем еврейской чертой. Еврейской или нет, эту черту я наблюдал во время его длительных пребываний в Швеции, когда он общался главным образом с нашей семьей и семьей своего шведского издателя. Тогда он проявлял все свои положительные качества и никогда — никогда! — не давал волю отрицательным. Конкретное доказательство этому «преклонению» я получил осенью 1989 года в такси на пути из Упсалы в Стокгольм, где мы с Иосифом выступали в университете. Иосиф вынул пачку сигарет, чтобы закурить, а когда я (редкий курильщик) взял сигарету, он вырвал ее из моих рук, опустил стекло машины и вышвырнул ее со словами: «То, что я курю, одно дело, а вы — pater familias». По той же причине он однажды сказал мне, чтобы я раз в год обязательно делал сканирование тела.
Нервозность и агрессивность, проявляемые Иосифом на людях, коренились в его робости и застенчивости. Если он был уверен в себе как поэте, то в себе как человеке он уверен не был — ровно наоборот. «В юности он был мучительно застенчив» и нередко заливался румянцем, вспоминает Людмила Штерн. Его французская подруга Анни Эпельбойн тоже помнит, что Иосиф «часто краснел, стеснялся». Объясняя двойственность его характера «каким-то комплексом», тем, что «он не нравился себе физически», она видит в этом источник «смеси невероятной нежности и грубости» в нем. Хотя застенчивости и робости с годами поубавилось, преодолеть их до конца Бродскому не удалось. Когда в 1982 году американская журналистка Хелен Бенедикт посетила Иосифа в его нью-йоркской квартире и услышала, как он говорит по телефону, она подумала, что «иметь такого друга было бы нелегко»: «Лоялен, но груб, если не в настроении. Рвение к правде, которое ощущается в его поэзии, может, заметила я, оборачиваться в жизни недостатком такта». Бродский, продолжает она, — «странная смесь наглости и робости — застенчивости, кажущейся иногда презрением».
![Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] - i_027.png](https://flibusta.biz/covers34534265325342/1/9/9/1/1/3/150703/1356983006/i_027.png)
[Фото 27. Любимый жест Бродского, когда он был в хорошем настроении. Фото сделано в квартире автора во время записи программы «Иосиф Бродский и четыре русских поэта» для шведского ТВ в августе 1992 г. Фото Б. Янгфельдта.]
Вследствие этих черт своего характера Иосиф нередко ранил людей, сам того не желая. «В его характере было что-то, что мне не нравилось, — призналась Сьюзен Зонтаг в интервью. — Мне не нравилось то, как зло и презрительно он порой относился к людям», особенно к молодым. В качестве примера она приводит случай, когда Бродский спросил молодую женщину, чем она занимается. Когда та ответила, что она писательница, он спросил, с чего она взяла, что у нее к этому есть способности. «Это было очень жестоко, ведь он практически ничего не знал об этой молодой особе», — вспоминала Зонтаг, добавляя, что та заплакала.
«Жестокость» эта отразилась и в его поэзии, например, в некоторых стихотворениях, обращенных к Марине Басмановой, и в стихотворении «Письмо в оазис», посвященном Александру Кушнеру (за которое он потом скрепя сердце извинился — и посвящение снял). Другой пример — как в «Набережной неисцелимых» он изображает свою венецианскую подругу, впав в отчаяние от того, что она отказывает ему в нежности. Третий — отличавшийся весьма «желчным» (по определению Джона Кутзее) тоном очерк «Посвящается позвоночнику», вошедший в сборник эссе «О скорби и разуме». Очерк был написан по-русски в 1978 году, по свежим впечатлениям от конгресса ПЕН-клуба в Рио-де-Жанейро. В тексте фигурирует названная по имени «шведская вещь», «хамка» и «психопатка», которой он был занят «с утра до вечера» и которая «мастью и бездарностью в деле» сильно напоминала другую шведку, тоже названную, хотя только инициалами, но легко узнаваемую, поскольку те же буквы стоят посвящением к первому стихотворению Бродского на шведскую тему. Узнав, что Иосиф собирается включить этот очерк в новый сборник эссе, я уговаривал его нейтрализовать эти места, поскольку выпады его казались мне и необоснованными и бестактными. Что он и сделал: имя было заменено фразой: «Назовем ее Полярной звездой», инициалы превратились в «N. N.», прилагательное «шведская» заменилось попеременно «нордической» и «скандинавской», а сетования на сексуальные недостатки были вовсе опущены. К моему удивлению, не потребовалось никаких усилий, чтобы убедить Иосифа в желательности этой ретуши. Легкость, с которой Иосиф пошел на изменения в тексте эссе «Посвящается позвоночнику», скорее всего, объяснялась тем, что он счел лишним раздражать читателей в стране, к которой испытывал столь теплые чувства. Однако русский текст, вошедший в его «Собрание сочинений», остался без изменений.
Бродский осознавал трудность своего характера и сам не раз говорил об этом в частных беседах и в разных интервью последних лет. «Я… достаточно хорошо себя знаю что я такое, какой я монстр, какое исчадье ада», — признался он в интервью Томасу Венцлове, приводя как пример все, что он «натворил в этой жизни с разными людьми». Именно эти «предосудительные», по его собственному определению, поступки, а «не аплодисменты или положительные рецензии», определяют в конце концов отношение человека к себе. На известной стадии жизни человек понимает, что он «сумма своих действий, поступков, а не сумма своих намерений».
Осознание этого — трудное, отчуждающее. Но даже если жизнь была «жутковатой с любой точки зрения», считал Бродский, она имела то преимущество, что была своя, «а не чья-либо жизнь». Самодостаточность, независимость, автономность — вот черты, которые Бродский выделяет у писателей, особенно им ценимых. Платонов, например, производил на него «впечатление поразительной автономии». «Смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь, — писал он летом 1965 года Якову Гордину из ссылки. — Обособляйся и позволяй себе все, что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если весел — тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь — это твоя жизнь. Ничьи — пусть самые высокие — правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае они похожи на твои. Будь независим. Независимость — лучшее качество на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) — это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты; а то приходится сводить счеты фиг знает с кем».
Осознавая импульсивность своего восприятия действительности, Бродский любил ссылаться (кстати, как и в очерке «Посвящается позвоночнику») на формулу японского писателя Акутагавы Рюноскэ: «У меня нет совести. У меня есть только нервы», перефразируя ее на свой лад: «У меня нет убеждений (или философии). У меня есть только нервы».
Вне четырех стен дома
Нервность и мнительность, овладевавшие Иосифом вне четырех стен собственного дома, были связаны не только со сверхчувствительной психикой, но и с произволом жестокой советской действительности, постоянно дававшей о себе знать. «Иосифу казалось, что если человек не пришел вовремя домой, с ним обязательно случилось что-то плохое, исходящее от властей предержащих», — вспоминает Татьяна Никольская, которая знала его с начала 60-х годов. Такое бывало: вдруг откуда ни возьмись появляются два человека, заталкивают тебя в автомобиль и увозят в КБГ или в психушку.