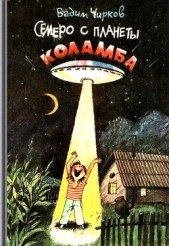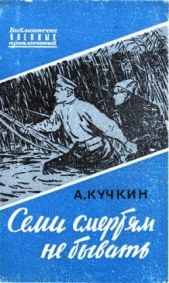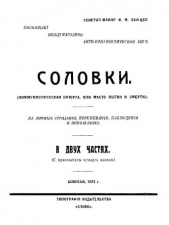А было все так

А было все так читать книгу онлайн
Пятнадцатилетним подростком, обвиненным в подготовке покушения на секретаря ЦК КП(б) Украины Косиора и… товарища Сталина, попал Юрий Чирков, автор этой книги, на Соловки. Получил он за «преступление» три года. Правда, тем, кто отсиживал срок, потом добавляли еще, так что на круг выходило и десять лет, и двадцать, иногда и более. Практически же осужденный обречен был нести свой крест пожизненно, ибо тем счастливчикам, кому удавалось выжить и вырваться на свободу, ненавистная статья (или «букет» статей) оставалась клеймом на всю оставшуюся жизнь: она предопределяла, где пребывать человеку, где работать, чем заниматься…
Ничего этого семиклассник Юра Чирков в 1935 году еще не знал. Ни он, ни другие, постарше и позрелей, попав на Святой остров, не могли тогда предсказать, что станут Соловки судьбой тысяч и тысяч советских людей, что именно отсюда пойдут ветвиться лагеря: они перебросятся на континент, охватят Север, Сибирь, а потом и Восток, невидимыми нитями опояшут страну, каждого человека, независимо от того, за колючей проволокой он или за ее пределами. Цинично и страшно звучат в книге слова наркома Ежова о том, что все население страны делится на три категории – заключенных, подследственных и подозреваемых.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дни опять пошли быстро и упорядоченно. Я стал так быстро читать, что сам удивлялся. Вскоре к нам присоединился Катаока. Его выгнали из парикмахерской из-за конфликта со стрелком. Катаока был большой мастер и брил виртуозно, но стрелок дергался, несмотря на предупреждения мастера, и, когда получил царапину, вскочил и стал ругать Катаоку. Тот шагнул к стрелку и бросил ему в ноги бритву: «Брейся сам». Лезвие, ударившись о каменный пол, разлетелось на куски, стрелок убежал, потом явился с подкреплением и забрал японца в карцер. После этого Катаока стал ненаряженным и, сидя в красном уголке, прилежно изучал тонкости русского языка по словарям.
Зима шла к концу. Пережили все-таки. И вдруг событие: сняли портреты генерального комиссара госбезопасности, наркома внутренних дел Ягоды. Вскоре появились портреты назначенного на место Ягоды Ежова. Заключенные, особенно те, у кого срок кончался в 1937 году, беспокоились. Как-то в солнечный день в конце апреля соловчане из Иванова встретили вновь прибывших земляков, которые сообщили о многочисленных арестах старых ивановских рабочих-текстильщиков за участие в знаменитой стачке и походе на Москву в 1933 году. Ивановцы рассказывали, что массовое выступление голодающих рабочих очень напугало вождей. На умиротворение был послан Лазарь Каганович и в качестве решающего аргумента – войска НКВД. Лазарь выступил в каком-то театре перед представителями бастующих рабочих, но, очевидно, взял неверный тон, начал угрожать. Обозленные рабочие кинулись на сцену и довольно сильно помяли Лазаря, пока его отбивала охрана. Собрание приняло решение идти на Москву с красными флагами и лозунгами: «Хлеба! Мы голодаем!», «Даешь Советскую власть!» и др. Но пути были перекрыты войсками, стрелявшими в толпу. Войска оказались сильнее рабочих. Стачечный комитет был арестован и увезен в Москву.
Потом за разговоры на тему о стачке давали по пять лет, но основную массу рабочих не трогали. Теперь же, спустя четыре года, взялись и за простых участников забастовки.
Макарянц смотрел на происходящее очень пессимистически и изрекал мрачные прогнозы, после чего хватал себя за нос и впадал в транс. Бурков стал более обычного раздражительным и говорил, что всерьез подумывает о петле, так ему все кажется беспросветным. И другие знакомые хандрили и не радовались весне. Плохое настроение усугубилось, так как в конце апреля многих ненаряженных, ранее никогда не работавших или имеющих освобождение ценой голодовки или бывших политических, стали демонстративно наряжать на работу. Почти все отказывались. Нарядили 30 апреля и меня. Я отказался, ссылаясь на выголоданное разрешение.
Второго мая была генеральная проверка. Заключенные были построены по колоннам во втором дворе кремля. После проверки зачитали приказ, где было сказано: «За систематический отказ от работ и нарушение лагрежима заключить в колонну усиленного режима (КУР) на 3 месяца…» Далее шел длинный список нарушителей, куда попали Бурков, Катаока, Лукашов, Макарянц и я, а также еще человек 30. Всех во второй половине апреля наряжали на скверные работы (мести двор, наводить чистоту в уборных, очищать снег с крыш и т. п.), и все отказывались. Отправка в КУР была назначена на 3 мая.
Какой начался шум! Напряжение, накапливавшееся последние месяцы, прорвалось. Бурков кричал, что объявит сухую голодовку протеста, ему вторили Макарянц, Катаока, грузинский профессор Кикодзе, эстонцы, поляки и другие. Я тоже твердо решил объявить голодовку. Объявили отбой, колонны смешались, все обсуждали это событие как уже явное свидетельство «закручивания гаек» и окончание «соловецких вольностей».
Ко мне подошли Шведов, Вальда-Фарановский и еще некоторые из добрых знакомых. Ротмистр обратил внимание на подготовку этой провокационной, как он сказал, акции: сначала наряд на неприятные работы, потом строгое наказание. Три месяца КУРа – это предельный срок. Подобраны почти все, кто раньше объявлял голодовки и характеризуется строптивостью. Очевидно, что это провокация с целью вызвать массовую голодовку, а потом проявить непреклонность: хотите голодать – голодайте, пока не сдохнете. Поэтому не следовало бы поддаваться на провокацию. Я смеялся и говорил, что вот представился случай еще раз проверить силу воли в более трудных обстоятельствах.
Когда мы остались втроем, Шведов предложил прогуляться и погреться с южной стороны Преображенского собора. Там мои доброжелатели снова провели беседу, но не могли уговорить меня. Мне чувствовалось, что если я соглашусь, не объявлю голодовку и пойду в КУР, то задохнусь от ощущения униженности. В заключение Вальда-Фарановский загадочно сказал, что если я останусь в живых, то пойму, когда можно рисковать жизнью, а когда не следует, что при всех моих качествах я еще мальчишка и не способен хладнокровно, без эмоций анализировать ситуацию. Я привел в пример Буркова и Катаоку, больше всех кричавших о голодовке, на что мудрый ротмистр презрительно сказал: «Бурков заводится с полоборота и тогда не способен управлять собою, а Катаока тоже не пример, поскольку сам факт его ареста говорит: он неполноценный разведчик и самурай».
В конце дня я написал заявление об объявлении голодовки, чтобы завтра вручить его в КУРе. Некоторые оптимисты предвещали, что начальство не реализует приказ после возмущения на генеральной проверке. Однако приказ реализовали, и утром 4 мая целый этап отправился в КУР.
В КУРе начальником был бывший член ЦК КП Грузии Медзмарашвили, сидевший за бытовое разложение. Он принимал этап «строптивцев», отпуская какие-то грубые шуточки в наш адрес. Его толстое, обрюзгшее бледное лицо выражало глубочайшее презрение. Сложив руки на толстом животе, он вертел большими пальцами. Когда дошла очередь до Буркова, тот объявил о голодовке. Начальник КУРа не реагировал.
– Я объявляю голодовку! – закричал Бурков.
– Объявил и молчи, зачем кричишь, – засмеялся начальник, – нам больше хлеба останется.
– Объявляю сухую, – тихо сказал Бурков, сжимая кулаки.
Казалось, он сейчас бросится на толстого грузина. Медзмарашвили отвернулся. О голодовке также заявили Катаока, анархист Макарянц, я и еще шесть или семь человек. Я подал заранее написанное заявление.
Всех прибывших разместили в большом бараке с трехэтажными нарами. Старожилов было тоже много. Большинство попали в КУР за отказы от работы в апреле – мае. Народ здесь был из всех лагерных пунктов, разбросанных по архипелагу. Я выбрал место на нижних нарах, рядом устроился Катаока, наверх влез Бурков, где-то поблизости разместился Макарянц и китаец Ван-Фан-Ю—один из рекордсменов по голодовкам (в 36-м году он голодал около 70 дней при принудительном питании и едва не умер). Вскоре в барак явился начальник в сопровождении вахтеров. В их числе я увидел Хохлова – того подследственного снабженца из «подразмаха», проявившего ко мне участие в общей камере после прекращения голодовки. Он узнал меня и приложил палец к губам, очевидно, желая показать, что не надо с ним разговаривать.
Начальник КУРа громогласно объявил, что наши действия нарушают лагерный режим и мы будем наказаны, если не откажемся от голодовки. Все молчали. Тогда он закричал:
– Встать, собаки!
Все продолжали лежать. Желая настоять на выполнении приказа, начальник применил индивидуальный подход и обратился к Катаоке:
– Почему не встаете?
– Катаока Кентаро – человек, а не собака, – был ответ.
– Почему лежишь? – крикнул начальник мне.
– Почему вы кричите? – спросил я в ответ.
– Ах ты, разложившийся мальчишка! – зашелся в крике начальник.
– Не я разложившийся, а вы, – сказал я громко, – все знают, за что вас посадили, разложившийся коммунист.
Стало очень тихо. Лицо Медзмарашвили стало багровым, глаза его выкатились. Он тяжело дышал, с ненавистью смотря на меня. В этот момент с верхних нар Бурков столкнул ногой котелок с водой, облив начальника.
Скучным голосом Бурков из-под одеяла произнес:
– Не ставьте мне воду, я «сухой».
Оскорбленный начальник развернулся и буквально выбежал из барака вместе со свитой.