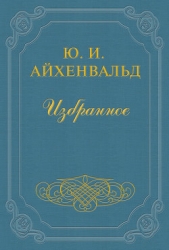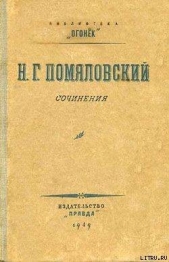Помяловский
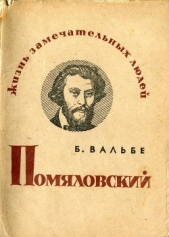
Помяловский читать книгу онлайн
В издание идет речь о жизни и творчестве русского писателя - прозаика XIX века - Помяловского Николая Герасимовича (1835-1863), автора реалистичных повестей и очерков таких как: «Молотов», «Мещанское счастье», «Очерки бурсы» и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таков и характер череванинского кружка. Этот кружок, где молодежь буйно проводит время, полная противоположность тем уголкам столицы, где «совершается тихая жизнь», так, например, семья Дороговых. Жизнь этого кружка бурно проходит перед читателем в больших череванинских монологах «кладбищенской» скептической философии, в многослитных возгласах пирующей молодежи, сопровождаемых обычными авторскими комментариями.
Молотов полагает, что в эту нелепую обстановку может привлечь только недостаток эстетического чувства, грубость, одичалость характера, откуда и идет вся эта нелюбовь к ровной, тихой, «полной глубокого смысла, семейной жизни».
По Череванину же, его собутыльники — это дивные ребята. Однако характер этих «дивных ребят» вскрывается перед нами, во-первых, в тех описательных ремарках автора, которые отмечены несколько саркастической словесной интонацией, но еще больше этот характер проявляется в хаотических возгласах и репликах, где замечательно передана вся эта своеобразная идеологическая деформация.
«Что делаем? Мы вопросы современные решаем… — отвечает Череванин Молотову. — Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, что-нибудь спроста? Нет, это о Суэзском перешейке валяет. Не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу, там решают излияние французского кабинета в Азии. А посмотри-ка на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?
— Гегель и прогресс, Гегель и прогресс! — кричал длинный господин. — Это все любители просвещения, братец ты мой!
— Чорт знает, как скучно дома, — говорил как-то Касимов: — что за пошлая, телячья жизнь. Ни о чем не услышишь живого слова; бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто и невыносимо… А какая чистота нравов…»
Череванинский кужок — это реакция «на пошлую телячью жизнь» дороговской среды, и вместе с тем Помяловский вскрывает индивидуалистическую беспочвенность этих анархиствующих молодых людей, Отсутствие за этим кружком какой-либо массовой опоры.
Недаром Череванин разъясняет Молотову, склонному найти в болтовне этих людей отголосок каких-то «убеждений», что это «просто дурь на себя напустили»: им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «ай, маменька, не буду». Предложи любому из них чин регистратора, сейчас убеждения по боку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела, — а какая среда? Натуришка гнилая, идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы!
Так изображал Помяловский два поколения разночинцев — кружок Игната Дорогова и кружок Череванина, — вскрывая все ничтожество их стремлений к «мещанскому счастью», приводящих либо к косности старшего поколения, либо к жалкой анархической болтовне второго кружка.
Самого Помяловского, конечно, не удовлетворяло ни череванинское кладбищенство, ни молотовское счастье. Ему хотелось показать подлинно-общественный творческий тип той эпохи. Очевидно, это и являлось целью последней части трилогии.
Кладбищенская философия всячески преодолевалась Помяловским, из ее тенет он всегда рвался.
Отсюда его неугасимый интерес к вопросам воспитания, к задачам литературы как оружию познания новых «участков жизни».
Благовещенский рассказывает, как в экстазе Помяловский говорил:
— Вот где жизнь-то кипит! Теперь работать надо: руки и готова крепко нужны!
«Молотов» и «Мещанское счастье» — это первые реалистические романы о демократической интеллигенции, выступившей на арену русской общественности.
Неудивительно, что эти произведения Помяловского встречены были передовыми современниками, как знаменательные страницы начинающейся новой литературной эпохи. «Молотов», говоря словами Н. А. Благовещенского, произвел «на читающий люд» глубочайшее впечатление. Помяловский сразу занял место в ряду наших лучших беллетристов. «В самом деле, — добавляет Благовещенский, — в редкой повести, даже до сего дня, было высказано так много жизненной правды, выражен такой глубокий психологический анализ». «Молотов» произвел глубокое впечатление не только на сторонников того направления, к которому принадлежал сам Помяловский и его друзья по «Современнику», но известны частые и радостно взволнованные отклики, какие вызвал «Молотов» хотя бы у Тургенева. Тургенев многократно возвращается к оценке этого произведения, как исключительного явления. Месяц, два спустя после выхода «Молотова» в декабре 1861 года он пишет Анненкову: «Вы ничего не пишете мне о литературе — видно о ней нечего писать… Я прочел в «Современнике» повесть Помяловского и порадовался появлению чего-то нового и свежего, хотя недостатков много, но недостатки молодости». Любопытно, что под влиянием этого впечатления Тургенев в этом же письме как-то примиренно говорит даже о Добролюбове, которого, в пылу раздражения, споря с Чернышевским, назвал как-то «очковой змеей». «Огорчила меня, — пишет Тургенев, — смерть Добролюбова, хотя он собирался меня сесть живым. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна».
Но Тургенев не только хвалит это произведение Помяловского, он резко полемизирует с некоторыми своими друзьями, с закаленными палладинами барской эстетики. Любопытны в этом отношении письма Тургенева к Фету от 1862 года, предметом которых является «Молотов». В первом письме Тургенев рекомендует Фету произведение Помяловского в таких словах: «Прочтите в «Современнике» повесть Помяловского «Молотов» — нос ваш учует нечто похожее на свежее веяние чего-то похожего на талант». Мы не знаем точно, каков был отклик самого Фета на это письмо Тургенева, ответное письмо Фета не дошло до нас, но, судя по второму письму Тургенева, можно себе представить, что Фет отнесся отрицательно к «Молотову» за его идейность и публицистичность, — мол, произведение слишком умное, а в художественном творчестве — по эстетическим канонам Фета — ум только мешает. В ответ на это Тургенев пишет Фету:
«Я ожидал отчета о Минине (Островского. — Б. В.), а вы прислали целую диатрибу по поводу Молотова. Знаете ли что, милейший мой, — так же, как Толстого, страх фразы загнал в самую отчаянную фразу, так и вас отвращение к уму в художестве довело до самых изысканных умствований и лишило именно того наивного чувства, о котором вы так хлопочете. Вместо того, чтобы сразу понять, что Молотов написан очень молодым человеком, который сам еще не знает, на какой ноге ему плясать, вы увидали в нем какого-то образованного Панаева. Вы не заметили двух, трех прекрасных и наивных страниц о том, как развивалась и росла эта Надя или Настя, вы не заметили других признаков молодого дарования, уткнувшись в наносную пыль и сушь, о которой и говорить не стоило».
Нужно помнить, что «недостатки», о которых говорит Тургенев, скорее относятся не к мастерству Помяловского, а к его методу, который, как мы знаем, насквозь проникнут полемичностью в отношении тургеневской школы. Но характерен тон тургеневского письма к Фету. Отрицательное отношение последнего к Помяловскому для Тургенева просто диатриба, т. е. мелкая придирчивость.
Попутно Тургенев заступается за «ум» в художественном творчестве.
«Вы, — пишет он, — поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего. Это воззрение должен назвать славянофильским, ибо оно носит на себе, характер этой школы: «здесь все черно, а там все бело», «правда вся сидит на этой стороне». А мы, грешные люди, полагаем, что этакий маханьем с плеча топором только себя утешишь. Впрочем, оно, конечно, легче, а то, признав, что правда и здесь, и там, что никаким резким определением ничего не определишь, приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и так далее, а эта скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному: «Смирно! Ум, понял, направо! Марш! Стой, равняйсь! Художество! Налево марш! Стой, равняйсь!» И чудесно! стоит только подписать рапорт, что все, мол, обстоит благополучно. Но тут приходится сказать словами (умными или глупыми, как, по-вашему?) Гете «Ja, wenn wir es nur nicht besser wüssten» [5].