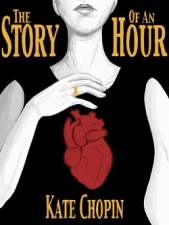Шопен

Шопен читать книгу онлайн
Шопен (Chopin) Фридерик Францишек [22.2 (по др. сведениям, 1.3).1810, Желязова Воля, близ Варшавы, — 17.10.1849, Париж], польский композитор и пианист. Сын французского эмигранта Никола Ш., участника Польского восстания 1794, и польки Ю. Кшижановской. Первые уроки игры на фортепьяно получил у сестры — Людвики Ш. С 1816 учился у чешского пианиста и композитора В. Живного в Варшаве. Пианистическое и композиторское дарование Ш. проявил очень рано: в 1817 написал 2 полонеза в духе М. К. Огиньского, в 1818 впервые выступил публично. На основе национальных танцев он создавал и поэтичные фортепьянные миниатюры, и большие концертные пьесы с оркестром, насыщая их чертами поэмности. На родине он начал также писать песни на слова польских поэтов; из нескольких десятков сохранились лишь 19 (опубликованы посмертно).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда впервые молодой Шопен понимает, что значит быть поляком. Это значит почувствовать обжигающий душу стыд, услышав немецкую пословицу: «Von Polen ist nichts zu holen» [70], и в то же время вдруг почувствовать глубокую, всесильную любовь к этому народу, на который столько уже лет сваливалось несчастье за несчастьем и столько лет — Шопен знал это — еще будут сыпаться беды! Первый раз захочется ему заплакать со злости, заскрежетать зубами от ненависти и вдруг, расправивши плечи, помечтать о том, что он на этой самой дорогой, единственной земле, что он припадает к ней и целует ее. Что он целует прохладу ее росы — и слышит песнь ее народа.
«Все обеды, вечера, концерты, танцы, которых у меня по уши, утомляют меня: так мне здесь грустно, тоскливо, уныло. Люблю я это, но не в такой уж чудовищной мере. Я не могу поступать так, как мне хочется, надо одеваться, причесываться, прихорашиваться; в салоне я притворяюсь спокойным, а воротясь домой, мечу громы на фортепьяно».
«В такой чудовищной мере»! Ах, каким же чудовищным кажется тебе, мальчик (тебе же ведь двадцать лет, не забудем об этом — гениям тоже дозволительны привилегии и пороки юности), равнодушие света к тому, что для тебя дороже всего, что тебя больше всего волнует, что тебя больнее всего ранят, раздражение всем довольного буржуа из-за того, что кто-то недоволен, терзается, борется, страдает. А ведь судьбы нашего народа уже были предрешены. Известно, что художник должен быть неудовлетворен, должен терзаться, бороться, страдать и так тяжело страдать, «таким чудовищным образом». Каким же чудовищным кажутся равнодушиеи сытость, которые разжиревшим филистерам в итальянском кабачке, тут же под боком у Шопена, диктуют эти слова — так хорошо знакомые нам вот уже в течение нескольких десятилетий «Der liebe Gott hat einen Fehler gemacht, dass er die Polen geschafft hat» [71]. Пока что этого филистера, коротающего свои дни под крылышком холодного властителя Меттерниха, разит «гром фортепьяно», но не зря, пожалуй, назовет вскоре Шуман творчество Шопена «пушками, скрытыми в цветах». Эта приевшаяся формула, повторяемая всеми биографами Шопена, все-таки имеет какое-то значение, что-то она выражает, и, если мы задумаемся над ней, мы без труда поймем в чем заключилась революционность Шопена. К этой революционности он приходит в Вене в течение этих удивительно пустых, бесплодных, отчаянных месяцев.
Некоторые комментаторы жизни Шопена различают в его письмах этого периода два тона: един — тот, в который Фридерик впадает в письмах к родителям, пытаясь предстать перед ними спокойным и беззаботным; и другой, в котором звучит настоящее отчаяние, — в письмах к Яну Матушинскому. Мне это деление кажется искусственным; все письма того времени — это удивительное смешение каких-то отголосков светской жизни, какого-то движения по линии наименьшего сопротивления, притворного веселья и страха перед весельем, который порою побеждает, с тем, что на самом деле творится в душе художника; стыд за самого себя, опасения за близких и отчаяние по поводу политического положения народа. Это какая-то дивная смесь порывов и пустяков, величия и падения, бесстыдства молодости и грусти, которая только юности знакома в дни горечи и разочарований. Вся эта сложная ситуация усугубляется еще и материальными трудностями. О доходах в Вене нет и речи, деньги, взятые в дорогу, подходят к концу, положение на родине не позволяет ему снова просить отца о помощи. Нов конце концов надо, иного выхода нет: «Папочка уже не три грошика на меня потратил; знаю, сколько помучиться за грош надо, что сегодня даже и муки не помогут, но надежда! Горше мне просить, чем Вам давать, но взять мне легче, чем Вам отдать. Бог все-таки сжалится — пунктум!» В этих фразах проявился весь тот цинизм, до которого безденежье может довести самого лучшего юношу. Шопен и в самом деле страдает и стыдится и, бездельничая в Вене восемь месяцев, не знает, за что ему взяться Бездельничает? Heт, созревает. А это чрезвычайно тяжелая работа для человека в его возрасте — созревание. Да еще в таком одиночестве, одиночестве среди людей, да еще испытывая такие угрызения совести, одолевая сомнения. «В салоне я притворяюсь спокойным, а воротясь домой, мечу громы на фортепьяно…»
Именно «мечу громы». До сих пор это было «словно ласковый взгляд на то, что в мыслях вызывает тысячу милых воспоминаний». Теперь начинается новая эпоха, эпоха громов. Ведь это еще — о чем мы так часто забываем — байроновское время, романтический век, великая всеевропейская эпоха Бури и Натиска. Мы же в те времена более всех других европейских наций имели поводов, чтобы ударить кулаком по клавишам. Так родилось это своеобразнейшее явление: польский романтизм. Так появляются «Дзяды», «Кордиан», «Скерцо си минор».
Музыка Шопена кажется нам вечной, вневременной. Однако она глубоко связана со своей эпохой; мы уже говорили об общности языка Шопена, Фильда, Гуммеля, Мошелеса. Этот язык был также родствен и языку тогдашней литературы. Шопен в этом отношении чрезвычайно осторожен, он не подпадает под безраздельное влияние романтической литературы, как Берлиоз и даже Лист. Он прежде всего музыкант. Но в то же время он и поляк, трагедия родины ставит его в такое же положение, как и наших поэтов, — трагический надрыв превращается в ту трещину, через которую в «абсолютную» музыку Шопена проникает литература. Я не говорю здесь о выражении. Оно всегда было цепью Шопена, поскольку выражение и вообще-то является целью его искусства. Я говорю тут об определенной литературной программе, которую художник делает своей отчетливой целью.
Таких примеров конкретизации поэтического образа, таких примеров литературной основы мы находим у Шопена немного, но они необычайно характерны Возьмем, скажем, «Ноктюрн до-диез минор, опус 27, № 1». Среди обычных по настроению ноктюрнов, картин, я бы сказал, ночных раздумий о верности или любви, он выделяется особым содержанием. Это ночные раздумья об отчизне. Написан он значительно позднее — после венского периода, но зарождается этот тип сочинений как раз в одинокой пустоте той ужасной для Фридерика эпохи. Этот ноктюрн открывается картиной равнины, близкой картине, которую вызывает в нашем воображении его предшественник — «Ноктюрн соль минор» — картиной равнины, над которой разливается песнь, нет, вернее, слышится тихое, вполголоса, пение, а не широкая и захватывающая дух песнь, какая звенит в следующей «поэме ночи» — «Ноктюрне ре-бемоль мажор», по самому своему замыслу противоположному «Ноктюрну до-диез минор», — так вот, я говорю, тихое пение вполголоса: И неожиданно на двадцать девятом такте возникает тревога; эта небывалая картина одинокой тьмы приходит в движение, колышется, мысль становится все беспокойнее, чтобы в другой кульминационной точке, в такте шестьдесят пятом, привести к мысли полонеза, которая через несколько тактов, словно сброшенная нетерпеливой рукой композитора, проваливается в пустоту, скатываясь по мощным уступам октавного пассажа, означенного мужским «кон форца», чтобы затем снова, после этой мгновенной вспышки, польской, трагической вспышки, возвратился равнинный пейзаж, основанный на первом сфорцато основного до-диез в басе, а над ним снова слышится тихая мелодия con duolo, чтобы затем раствориться в дивном calando последних тактов.

Я нарочно остановился на этом ноктюрне («Раздумье об отчизне»), чтобы подчеркнуть, какой мягкой, почти незаметной волной литературное содержание вливается в произведения Шопена. Разумеется, в то же время совершенно ясно, что такое содержание проникает в наиболее тонкие формы его искусства, особенно в моменты такого напряжения, какое Шопен переживал в Вене.
Такой же «литературой» отличается также и одно из самых своеобразных произведений Шопена, написанное в это время «Скерцо си минор». Само его название — по тем временам наверняка «чудно» звучащего произведения — было уже каким-то вызовом, брошенным в лицо всем тем, кто ждал шуток и веселья от молодого музыканта, переживавшего столь трагическое время. Скерцо, новая для Шопена форма, восходящая своим ритмом и фактурой к симфоническим скерцо Бетховена (и к «Сонате cis mollguasi una fantasia»), к фортепьянным скерцо Шуберта, по музыкальному своему содержанию было выдающимся достижением новаторской индивидуальности нашего композитора. Эта форма была совершенно новым, огромным шагом вперед в новом великом мире. Скерцо Шопена — это оригинальное, мощное произведение, неожиданно показавшее всю мощь его гения. Очередность опусов у Шопена не значит ничего. Он нумеровал свои сочинения по мере того, как отдавал их в печать, не обратная никакого внимания на дату их написания. Однако, когда мы замечаем, что «Скерцо си минор» в списке произведений Шопена стоит между «Болеро до мажор» и весенним, идилличным «Концертом фа минор», у нас возникает недоумение, откуда взялось это горькое, отчаянное и бурное сочинение.