Невидимый град
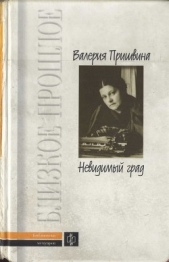
Невидимый град читать книгу онлайн
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Полки? — повторил он за мной в крайнем изумлении и тут же просиял. — Конечно, полки! Как это я мог не догадаться?
— По всем четырем стенам, самые простые полки, — обрадованно подхватила я. — Значит, с книгами решено. Но постное масло? Вы, конечно, ничего не умеете сами себе приготовить.
— Конечно, не умею, — с готовностью, радостно улыбаясь, подтвердил Александр Васильевич мои слова. — Но, уверяю вас, нет ничего проще: я прихожу вечером, достаю у соседки кипятку, потом макаю хлеб в масло, после этого в сахарный песок и запиваю кипятком.
«Провожает меня в Марьину Рощу, голодный идет назад. Потом среди пыльных раскопок ест постное масло с сахаром… Выбросить лишний хлам, открыть окна, сделать этому нелепому, славному человеку самое простое: убрать, вымыть, накормить…» — думаю я про себя.
— У меня замечательная мысль, — говорю я, — скоро открывается «Бодрая жизнь». Вы можете преподавать там любой предмет (я показала широким жестом на книжные груды), и тогда мы получим право зачислить вас на питанье.
Мое открытие кажется нам блестящим, и мы оба радуемся. Я смотрю на него и думаю: «Это большой беспомощный ребенок!» И тут весь мир как бы поворачивается и показывается мне другой, неизвестной до сих пор стороной: ко мне приходит впервые в жизни новое, неиспытанное чувство. Правда, было в прошлом что-то похожее в чувстве к матери после гибели отца, но такое, к совсем чужому человеку, взрослому мужчине, куда более сильному, чем я, такое сравнить было не с чем. Чувство это было огромно, но оно не было той ожидаемой мною любовью. Что же это пришло ко мне? Я растерянно молчала и не слыхала слов Александра Васильевича.
Много лет должно было пройти, много горя должно было пережиться, пока я поняла, что же тогда произошло со мной. Это было рождение матери в девочке. Это новое чувство не обращалось ни к кому лично, но оно в то же время включало в себя каждого. Я была подавлена им, но с несомненностью знала: я, сидящая посреди этих книг (этих отточенных мужских мыслей, накопленных веками), не тонула и не терялась в них. Я была — страшно сказать! — царицей и властительницей и мыслей этих, и всей жизни на земле. Так вот что такое, оказывается, женщина, и какая ей дана сила и власть! Конечно, смысл этот не доходил тогда до меня, но доходило понимание данной мне величайшей силы.
— Милый вы мой! — сказала я и провела обеими руками по наклоненной ко мне голове Александра Васильевича, по лицу; сняла очки и поцеловала его глаза, оказавшиеся без очков беспомощно-туманными, как у слепого человека или новорожденного младенца. — Милый, бедный вы мой! — повторила я.
И тут случилось непредвиденное: Александр Васильевич рухнул на пол и прильнул лицом к моим коленям. Мне передавалась дрожь его большого тела. Он поднял лицо, и я отвернулась — так страшно было читать его выражение. Меня сковывали жалость и страх. Это была та сила, отдаться которой значило погубить свою надежду и погибнуть самой.
Я возмутилась, отогнала призрак, гневно стряхнула его. Я разняла руки Александра Васильевича, обнимавшие мои колени, и, держа в своих, сказала:
— Никогда, дорогой мой, никогда, это невозможно!
— Вы не любите меня, разве можете вы полюбить меня! — воскликнул он с горечью, разрывавшей мне сердце.
— Это неправда, я очень люблю вас, — говорила я, полная сочувствия к нему и непонятной жалости к себе. — Мы были до сих пор друзьями — будем братом и сестрой! У меня не было брата, и я все детство мечтала о нем. Прошу вас, будем братом и сестрой!
Я вытирала платком то свои, то его глаза, а он целовал мои руки: темный призрак отошел.
— Не плачьте, — сказал Александр Васильевич, — я благодарю Бога уже за то, что вы существуете, это уже счастье. Разве я хотел бы вернуться в тот мир, в котором жил год назад и где вас не было? Разве это была жизнь? Нет, вам не надо больше из-за меня плакать. Я обещаю вам, я буду счастлив, я буду вашим братом. Я обещаю вам!
Теперь, на исходе жизни, я вижу, как искренно, как самоотверженно обманывали мы в ту минуту друг друга, как обманывались сами, не зная своих сил — и чего будет стоить в будущем нам обоим этот самообман!
И в эту минуту к нам вошел Абрамов. Из-под козырька надвинутой на лоб кепки он подозрительно и ревниво оглядывал нас глазами, в выражении которых поражала с первого взгляда какая-то остановившаяся и затвердевшая мысль. В Абрамове угадывался жар души, переходивший в мрачный «накал», который и светился в его черных умных глазах.
Он преувеличенно вежливо, даже церемонно поздоровался со мной, кивнул Александру Васильевичу, схватил чайник:
— Пойду принесу кипятку, я прямо из командировки — не спал и не ел.
Скоро он вернулся с кипятком, вынул принесенный хлеб из рыжего портфеля, зашитого по углам сапожной дратвой, и мы стали пить чай, постелив на стол газету. Мы перекидывались незначительными словами и изучали друг друга.
Александр Васильевич выжидательно помалкивал, потирал руки, то на ходу поглаживал по плечу Абрамова, то притрагивался просительно к кончикам моих пальцев, передавая мне стакан.
— Ну что ж, товарищи, — сказал наконец Абрамов, — драться так драться — не будем тянуть!
— Зачем же драться? — удивилась я, решительно не принимая его вызова.
— Затем, что я не уступлю его вам, — не сдался Абрамов. Он выглядывал сумрачно из-под густых волос, прядями падавших ему на лоб, как ни оглаживал он их то и дело рукою. Волосы не слушались его руки и снова падали: они одни в его наружности не слушались и выдавали его подлинный характер. Я сразу заметила: лицо его, несколько неподвижное от отсутствия улыбки, было отучено улыбаться. Всем своим видом Абрамов теперь выражал неудовольствие человека, отвлеченного от серьезного дела, и он торопился поскорее перейти к тому, для чего мы и собрались.
— Мы в долгу за каждую каплю крови на фронте, — начал он, — за каждый кусок хлеба в тылу перед этими людьми, которые взяли на себя труднейшее дело, чтоб дать нам это насущное… — Он замялся, ища слова и, чтоб продлить время, вытянул руку широким ораторским жестом, показывая на стол, где на газете стояли грязные стаканы и лежали куски недоеденного хлеба. Жест Абрамова, усвоенный им, видимо, на общественных выступлениях, здесь, перед нами двумя, вконец разрушал силу его слов: он вызывал смех.
«Неужели он сам этого не понимает?» — подумала я.
Но Абрамов смутился, сам почувствовал неуместность жеста, самоуверенность его покинула, и что-то мягкое, вопросительное и молодое мелькнуло в правдивых глазах под насупленными бровями. На короткое мгновение он расправил между бровями суровую складку, как, дрогнув, опускает уши собака, позволяя себе довериться ласковому голосу человека. Только на мгновение…
— Чем вы занимаетесь? — говорит он мне, игнорируя Александра Васильевича, и презрительно добавляет: — Де-кла-ма-цией! И еще этими идеалистическими сказками, от которых не имеете мужества отказаться, — показывает рукой точно на тот угол, где лежит у Александра Васильевича религиозная философия. — Я не говорю даже вам, что эти сказки метафизики бред. Они существуют, они очаровательны, но они — чистая выдумка и потому пустоцвет. Никакого отношения к реальной жизни они не имеют. Человечество долго питалось этими фантазиями, и вот настало время, человечество созрело и должно выйти из своей детской комнаты. Чем вы занимаетесь? — повторил он.
— Вы нечестно боретесь! — воскликнула я, обижаясь. — Зачем вы пытаетесь все свалить на одну меня? Вы вместе с Александром Васильевичем читали этот «бред», вы точно изучили даже его расположение в комнате, а я совсем не образована и ни к чему, кроме поэзии, не имею вкуса. Но в чем я вас хорошо понимаю — это насчет долгов: я чувствую остро свою связь с людьми, я думаю иногда, что человек в отдельности, сам по себе не существует. Иначе из-за чего бы я бросила сытное и теплое Узкое и увезла оттуда мать, и хлопочу с утра до ночи для детей именно об этом?
Тут я невольно повторяю до точности жест Абрамова, который только что нас так насмешил, и показываю торжественно на грязный и убогий стол. И снова живая искра вопроса и неуверенности пробегает по лицу Абрамова.


























