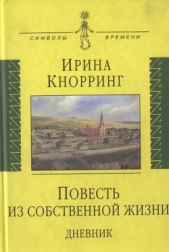Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 2

Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 2 читать книгу онлайн
Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906-1943), названный ею «Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Второй том Дневника охватывает период с 1926 по 1940 год и отражает события, происходившие с русскими эмигрантами во Франции. Читатель знакомится с буднями русских поэтов и писателей, добывающих средства к существованию в качестве мойщиков окон или упаковщиков парфюмерии; с бытом усадьбы Подгорного, где пустил свои корни Союз возвращения на Родину (и где отдыхает летом не ведающая об этом поэтесса с сыном); с работой Тургеневской библиотеки в Париже, детских лагерей Земгора, учреждений Красного Креста и других организаций, оказывающих помощь эмигрантам. Многие неизвестные факты общественной и культурной жизни наших соотечественников во Франции открываются читателям Дневника. Книга снабжена комментариями и аннотированным указателем имен, включающим около 1400 персоналий, - как выдающихся людей, так и вовсе безызвестных
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий очень внимателен. Видит, что я хочу быть одна, пошел к ним. А я вот не могу быть с ним такой внимательной и заботливой, как бы мне хотелось. Ложный стыд, м<ожет> б<ыть>, боязнь показаться сентиментальной, нежной. Это тоже один из ложных моментов нашей теперешней жизни.
4 сентября 1927. Воскресенье. Метро St. Marcel
Вчера днем я сердилась на Юрия. Оказывается, когда он меня оставил одну с дневником, в той комнате он все рассказал: и то, что я весь день хотела писать дневник, и то, что я и Мамочка собирались… О, эта откровенность, там, где не надо. Еще оказалось, что он рассказал и то, как я в Сфаяте кокаин нюхала; это, как дело прошлое, меня и не рассердило. Но все равно я обозлилась. Хотела ему бросить нечто вроде: «Если мне надо там что-нибудь сказать, я могу обойтись и без посредника». И потом решила, что это несправедливо, что без посредника я не всегда могу обойтись, и сколько раз сама, прямо или косвенно, поручала ему эту роль, и не будь его, я была бы совсем отрезанной от семьи, там бы обо мне ничего не знали.
И конечно, я ему рассказала все, что писала в прошлый раз. Разве я могу что-нибудь скрыть от него? И как я счастлива за свое бессилие перед его нащупывающими вопросами. Он дощу-пается до всего, до самого интимного. Как трудно об этом говорить, но как легко, когда скажешь. И на его просьбу: будь всегда со мной откровенна, говори обо всем, я отвечаю со всей искренностью и горячностью: «Да, Юрий, постараюсь». Ведь я же и хочу этого — последней откровенности — больше всего.
7 сентября 1927. Среда
Пишу у Юрия. Так я и мотаюсь теперь: то у него, то у них, а то и в метро. Где мой дом?
Почему я вчера заплакала, вечером, когда кончила читать вслух? Кое-что я могу объяснить, кое-что не хочу, а кое-что, м<ожет> б<ыть>, и совсем скрыть от моего понимания.
Первый момент и, м<ожет> б<ыть>, основной для вчерашнего вечера, напряженное желание его. Значит, я была не права, говоря, что у меня этого не бывает. То, что в Медоне было уже обычным, здесь стало почти недосягаемым. И вот этого-то мне и хотелось. Хотелось хотя бы просто лечь с ним под одеяло, прижаться к нему, обнять… Тут еще не знаешь, какое начало преобладает, физиологическое или психологическое. И вот это стремление не было удовлетворено. Во-первых, потому что Юрий последние дни совсем один, плохо себя чувствует, устал и просто не мог, а, во-вторых (м<ожет> б<ыть>, этот момент преобладал), мы не были свободны, за стеной слышались возгласы Мамочки. И первое напряжение должно было как-то разрядиться. И разрядилось слезами.
А вслед за этим — и другое чувство, чувство обиды за то, что мы должны как-то скрываться, таиться. Это лживое положение меня мучает страшно. Ведь, если бы я была его женой, de jure [93], этого бы не могло быть.
И во всем такая неловкость, м<ожет> б<ыть>, ложный стыд, м<ожет> б<ыть>, боязнь лишних разговоров в той комнате и не позволяет мне быть с ним так, как я хочу. Когда, напр<имер>, я иду к нему мыть посуду, я делаю это как-то потихоньку, чтобы Папа-Коля этого не видел и т. д. и т. д.
И как мне стало обидно от всего этого. Слезы закапали. Напугала только Юрия. О первом моменте не догадался. А о втором? Если нет, то меня это удивляет. Но только я ему об этом не скажу. Не смогу сказать. Также, м<ожет> б<ыть>, ложный стыд, ложное самолюбие. И получается вдвойне тяжело: какая-то ложь, какая-то ложь, даже в наших отношениях.
8 сентября 1927. Четверг. Метро Denfert-Rochereau
Торопиться некуда. Напротив. Стараюсь как можно позже вернуться домой. Сижу на пересадке. Пропускаю поезд за поездом к великому удивлению контролера. Он меня, должно быть, уже знает, «каждый день ведь почти». Торопиться некуда.
Делать дома нечего, т. е. нет работы. Это мне очень неприятно. Не то неприятно, что работы нет, а то, что денег нет. Особенно это тяжело сейчас, когда положение катастрофическое, и еще потому, что опять начинаются разговоры, что надо изучать какое-нибудь ремесло, как хорошо поступить на курсы прикладного искусства, а это значит, прощай Институт. М<ожет> б<ыть>, я большая свинья, но вся моя натура протестует против такой учебы. Глупо, наверно, и гадко. Неужели Юрий тоже так же думает?
Глядя на него, думала: зачем я себя берегу? Дрянь я, должно быть, и совсем не стою того внимания, которое сама себе уделяю. А ведь себе я уделяю гораздо больше внимания, чем ему. Ходасевич сказал про какого-то молодого поэта: «Он обладает всеми мелкими пороками и ни одним большим». Так вот и я, должно быть. Это вовсе не есть какое-то покаянное настроение, переход от эгоизма к более хорошему чувству, нет, просто все стало каким-то пустым. И даже смеяться не хочется.
А я о самом главном — ни слова. М<ожет> б<ыть>, у Юрки напишу.
Продолжаю у Юрки, пока его нет.
А вчера вот что было. Вообще настроение у меня в последнее время нервное и скверное. Все то же. Маленький повод и — драма. Так и вчера. Написала я стихотворение «В гостиных строгих с душными коврами». И мне оно понравилось. Больше, оно меня захватило. Не содержанием, конечно, а формой, — оно красиво. Вообще надо сознаться, что форма меня иной раз захватывает до того, что я совершенно забываю о содержании, т. е. пишу совсем не то, что хочу. Так отчасти было и тут, но только отчасти. Я просто не достаточно точно выразила свою мысль. А Юрий возмутился: «До какого низкого уровня ты сводишь женщину, становится обидно за человека» и т. д. И что меня обозлило, начал свои рассуждения о любви, как будто я этого наизусть не знаю, как будто сама не так думаю. Подошла к окну и заревела. И решила, в первый раз, уйти, не быть вечер вместе. На меня он в последние дни действует слишком разжигающе, я все время о нем думаю, я его хочу, я сама не знаю, что со мной делается, не даром же я стала такие стихи писать. Но стихотворения моего он не понял. М<ожет> б<ыть>, оно плохо, и мысль не ясна, но вовсе не проститутку я вижу в каждой женщине. А хотела я сказать, что «мы» всю жизнь ждем «тебя», женщина — мужчину, но совсем не для полового акта, а потому ждем, что жизнь женщины, пока в нее не войдет мужчина, пуста и бессодержательна. Любовь играет гораздо большую роль в жизни женщины, чем мужчины. Поэтому любовь и страсть мужчины часто бывает случайной, а у женщины — никогда. Женщина ждет его, он часто натыкается на нее случайно. Взять хотя бы нас с Юрием: сколько было у него романов, и сколько у меня, а ведь не только в годах тут дело. Я с детства ждала: «загадочного друга», ошибалась, и искала, и нашла. Вот что я хотела написать в своем стихотворении.
Сдерживая слезы, оделась и пошла к Андрею. Там развлеклась, болтали, читала ему Гумилева. Он меня проводил. Юрий увидел нас из окна и сошел вниз. Поднимались вдвоем. Между двух дверей я остановилась и молча спрашиваю: «Куда идти?» Он молчал, и я пошла направо. Его упрямство меня больше разволновало. Не могла найти способа вызвать его, сделала это нехотя, очень неудачно. Между нами встала какая-то ложь, и я не могу поймать ее, я ничего не могу сказать, мне только больно.
Сегодня состояние отвратительное. Придя из госпиталя, пошла гулять. Пошла на восток вдоль Сены, до конца Парижа, оттуда наверх к Венсенскому лесу, оттуда к ближайшему метро. Ходьба успокаивает. Но очень устала. Я даже не подозревала, что такая еще слабая. Наверно, это отзовется на завтрашнем анализе. Ну и пусть. «Для чего я себя берегу?»
17 сентября 1927. Суббота
За эту неделю произошли кое-какие события. Начиная с субботы, когда ходила топиться. Совершенно серьезно, т. е. не утонуть, а топиться. Хоть и знала, что не смогу.