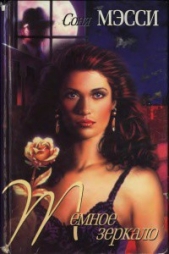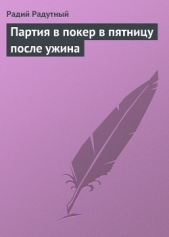Воспоминания

Воспоминания читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сборы в дорогу проходили на Покровке. На полу, на кровати, на стульях разложено снаряжение: выгоревшая на солнце палатка, туго свернутая рыбацкая сеть, ружье, патронташ с патронами, котелок, чайник, всякая походная мелочь. Сестры, радостно возбужденные, сноровисто укладывают рюкзаки, вспоминают разные смешные и страшные случаи прошлой поездки...
Дедушка умер во время войны, бабушка — в сорок восьмом году. На Покровке остались младший брат отца Василий Иванович Кочкуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан... под кровать.
Люди, далекие от литературы — грузчик и работница столовой, — Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема, они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения. Они сохранили ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого.
В последний раз я видела отца в сентябре или октябре тридцать седьмого.
Как-то раз вернулась из школы — следом пришел отец. Он был молчалив и сосредоточен, не спеша разделся, несколько раз прошелся по комнате, потом сел за стол, достал из кармана и положил перед собой тоненькую книжку в бумажной обложке. Я углядела, что она — из собираемой мною серии «Книга за книгой», обрадовалась и потянулась за ней через стол, но отец прижал книжку ладонью.
— Садись и слушай... «Янко-музыкант», — начал он с печальной торжественностью.
Отец читал мне вслух, чего прежде никогда не делал: я самостоятельно читала с четырех лет. Слушала, смаргивая слезы; горько заплакала, когда он дочитывал последнюю строку: Над Янко шумели березы...
Вскоре отец ушел; тогда я не пожалела, что не побыл со мною подольше: мне не терпелось еще раз перечесть историю Янко...
В конце октября отца арестовали. Следом оказалась за решеткой, а потом получила восемь лет лагерей Людмила Иосифовна, Леву и Лялю (так в детстве звали Волгу) забрали в детдом.
Долгие годы не знали мы о судьбе отца: в справочной на Кузнецком, 24, на наши регулярные о нем запросы отвечали одно и то же в краткой стереотипной формулировке: «Жив, работает; осужден на 10 лет без права переписки», повторяли это — не вдаваясь в объяснения — и после того, как истек срок наказания[1].
Маму арестовали в начале сорок восьмого года. Ее не посадили в 30-е, во время массовых арестов; тогда она ожидала этого каждую ночь — знала за собой давнюю провинность: будучи работницей электролампового завода, выступила на заводском митинге в поддержку оппозиции, за что впоследствии — в середине 30-х — была исключена из партии, уволена с работы (она занимала какую-то техническую должность на радио). Долго не могла никуда устроиться, была вынуждена завербоваться в Каракалпакию. Уехала на год, оставив нас с сестрой в Москве, меня — на попечении своей еще фабричной подруги, а Гайру — бабушки с дедом. Вернулась как раз ко времени массовых арестов. Предупреждала нас каждый вечер, чтобы мы не пугались, если ночью за ней придут, клала Гайре под подушку деньги на первое время. Но в ту пору — обошлось...
После войны мама работала медсестрой в поликлинике, подрабатывала уколами и как-то раз по телефону, висевшему у нас в коридоре, сказала своему пациенту, чтобы тот постарался достать американский пенициллин, — он, мол, гораздо лучше нашего.
[1] В 1956 году, с посмертной реабилитацией отца, была названа дата его смерти — 2 декабря 1939 года. По сведениям, полученным в 1988 году в Военной коллегии Верховного суда СССР, Артем Веселый расстрелян 8 апреля 1938 года.
Сосед услыхал, донес куда следует.
Мать обвинили в антисоветской агитации, припомнили старое, приговорили к восьми годам лагерей.
Мама попала в Потьму. Она не была лишена права переписки, но это право ограничивалось двумя письмами в год. Кроме того, отправив ей посылку, мы в ответ получали разрешаемую открытку всего из трех слов: «Посылку получила, мама». Было нам уже и одно письмо — скупое (явно подцензурное): мол, жива-здорова, работаю на общих, спасибо за посылки. Мама беспокоилась о нас, просила писать почаще.
Посылки мы с сестрой отправляли каждый месяц, деньги на них давал большой мамин друг, что сохранялось им и нами в строжайшей тайне: был он старым большевиком, директором фабрики и сильно рисковал, помогая осужденной. Мы рассчитывали, что, как только Гайра закончит университет и поступит на работу, мы полностью возьмем на себя заботу о матери.
...У подъезда стояла черная «эмка».
Передо мной распахнули дверцу, я оказалась на заднем сиденье между двумя военными.
Машина, рванув с места, помчалась по Арбату, по Воздвиженке, через Манежную площадь и, подъехав к большому зданию на площади Дзержинского, остановилась у подъезда № 3.
ЛУБЯНКА
Это уже потом, освоившись с тюремными порядками и терминологией, я узнала, что провела ночь в боксе. А тогда подумала, что комнатушка без окна, напоминающая чулан,—одиночная камера. Маленький — типа тумбочки — столик, табуретка; кровати небыло.
«Должно быть, мне бросят соломенный тюфяк, — решила я.— Подумать только, я — в тюрьме!» Настроение у меня было приподнятое: ждала каких-то значительных и немедленных событий, связанных с моим загадочным арестом.
Забавляла мысль, что не соберись мы вместо субботы в пятницу — не бывать бы нашему званому вечеру; радовалась, что ночной стук не врасплох застал нас с сестрой, не спросонья, как это было при аресте мамы; запоздало удивилась, что не было обыска, подумала: «Оно и лучше».
Время шло, но ничего не происходило. Первоначальное возбуждение постепенно улеглось, подступила тревога.
Пыталась строить догадки, почему меня арестовали. Мама во время свидания, данного нам перед ее отправкой в лагерь, сумела намекнуть, кто из наших квартирных соседей доносчик.
Может быть, я что-нибудь брякнула по телефону, а этот сосед подслушал — и донес? Или он меня просто оклеветал? Удастся ли оправдаться? Одно из двух: или меня взяли по ошибке — тогда разберутся и отпустят, или...
Сидела, уставившись в стену, чувствуя, как угнетающе начинает действовать слепящий свет яркой лампы и полная — до звона в ушах — тишина.
В прошедший год, выстаивая часами в очередях к различным притюремным окошкам, я слышала обрывки разговоров, из которых уяснила, что над политическими заключенными суда в обычном представлении не бывает, срок наказания определяет ОСО (Особое совещание).
Почему меня так долго никуда не вызывают? Забыли обо мне, что ли? А вдруг это самое ОСО уже приговорило меня к одиночному заключению, вот так и буду теперь тут сидеть...
Мне сделалось страшно.
В камере не было окна, и я потеряла ощущение времени; внезапно у меня начался какой-то психоз: самым важным показалось немедленно узнать, что сейчас на дворе — все еще ночь или уже утро?
Подошла к двери, постучала. Замок (или засов?) лязгнул, в камеру заглянул надзиратель:
— Чего тебе?
— Который час?
Он посмотрел на меня оторопело, захлопнул дверь. Лязгнул замок. Я почувствовала в горле жесткий ком — предвестник слез —и сосредоточилась на том, чтобы не заплакать.
Но вскоре ком в горле исчез: начались события.
Сначала меня отвели в душ (явно для галочки: вода была чуть теплая, и надзиратель, когда я на это посетовала, крикнул из-за двери: «Не хочешь — не мойся, главное — волосы смочи»).
Потом был обыск.
Вещи, вытряхнутые из наволочки на большой стол, осматривала хмурая тетка в военной форме и в берете.
Ее внимание сразу же привлекли капроновые чулки.
— Небось с американцем гуляла, — заключила она. Я побожилась, что никакого американца у меня никогда не было, но она явно не поверила, — я осеклась и пожалела, что не сумела надменно промолчать. Под левым манжетом ее гимнастерки угадывались часы.