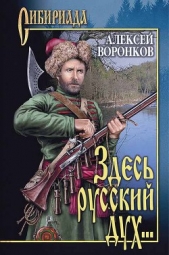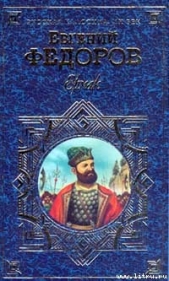Дар бесценный

Дар бесценный читать книгу онлайн
Жизнь каждого подлинного художника — подвиг. О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка его Наталья Петровна Кончаловская.
И может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды он нырнул, да не рассчитал и вынырнул раньше срока. Вода поволокла его под балками. Балки были склизкими, и между ними в щелях сияло небо. Здесь, под водой, мелькая в прорезях, оно казалось намного синее… Вася едва выкарабкался из-под плота и вылез на берег. Маленький, скуластый, с прилипшими ко лбу волосами, бледный, дрожа от страха и боли, в синяках и ссадинах от шершавых балок, он попрыгал на одной ножке (в левом ухе булькала вода), потом улегся на песок и закрыл глаза в изнеможении. Все казалось, что вода мчит его под балками и небо, как синими лезвиями, режет, режет его по телу… Ох, страшно!..
Вася вздохнул, открыл глаза. Над ним опрокинулось чистое небо, только сейчас оно было куда светлее! Он вскочил, натянул порточки и рубашку, подпоясался кушаком и пустился догонять товарищей…
Еще была радость — ходить с отцом на охоту. В первый же раз, как только получил ружье, удалось ему так метко при: целиться, что он снял глухаря с ветки. С тех пор отец часто брал его с собой в тайгу.
Однажды он намеренно отбился от отца и, заплутавшись, весь день пробродил в тайге один. Дичи настрелял уйму, но домой выбрался только к вечеру.
Солнце садилось. Еще издали Вася увидел на плотине отца и мать, в отчаянии карауливших его. Два тревожных силуэта на оранжевом фоне заката повергли Васю в смятение и страх. Он помедлил, хотел было спрятаться за стога, чуя расправу, но его заметили, закричали, замахали руками. Тогда, опустив голову, Вася быстро пошел навстречу. За плечами у него было ружьишко, в руке — груда связанных за лапки тетерок и рябчиков.
Разъяренный отец схватил сына за ноги, чтоб разложить его и высечь, а плачущая от счастья мать схватила за плечи и потащила к себе, чтоб защитить от побоев. Чуть не разорвали мальчишку! Мать отстояла, простив ему в эту минуту все свое отчаяние, все тревоги, пережитые за несколько часов. А тревожиться было о чем — ведь мог и медведь задрать в лесу, и лихой человек обидеть, отнимая ружье. Кругом на дорогах и в тайге было полно ссыльных, беглых, бродяг-«варнаков», как называли их в Сибири.
Варнаки
— Что это словно по ногам очень дует? Ваня, а Ваня!
Прасковья Федоровна разбудила мужа. В открытую дверь спальни задувал сильный ветер.
Вся семья Суриковых спала на одной огромной кровати. Вася — всегда «на руке» у отца, сестра Катя и недавно родившийся брат Саша — по сторонам возле матери, а старшая — падчерица Лиза — спала поперек кровати, в ногах. И как это случилось? Уснули так крепко, ничего не слыхали. Д дверь взломана, раскрыта настежь. Сундук с материнским приданым открыт, и все как есть украдено. Тогда сестра Лиза вдруг припомнила, что кто-то словно по ногам/ ее толкал. Хорошо, что никто не проснулся, а то, пожалуй никому бы в живых не остаться.
А утром нашли на заборах вышитые платки и полотенца, да венчальное платье Прасковьи Федоровны пузырем всплыло на реке, прибитое к берегу. Вот они, варнаки-то! Уж как крепко на все засовы, на все болты замыкали Суриковы двери и ставни на ночь, а все равно не убереглись от разбойников!
А однажды пришлось Васе с варнаком на большой дороге повстречаться. Ехали они тогда с матерью и сестрой Катей в Красноярск. Дорогой забила Васю лихорадка, видно, застудился где-то. Уложила его Прасковья Федоровна в тарантасе, укрыла кошмой потеплее, он и заснул.
Той порой проезжали место, где тайга близко подходила к дороге, и вдруг вышел на тракт человек — кудлатый, бледный, в красной рубахе. Он молча остановил лошадей, подсел на облучок и, взяв у перепуганного ямщика вожжи из рук, свернул с дороги в лес. Слышит Прасковья Федоровна, как разбойник говорит ямщику:
— Что ж, до вечера управимся с ними?
Поняла она, что попала в беду, затряслась вся, вскочила. Тут Вася открыл глаза, очнулся от лихорадки и видит, что мать одной рукой разбойнику деньги сует, а другой детей загораживает и плачет:
— Что хотите берите, только не убивайте! Дети ведь малые!..
Выручил их священник, что случайно по тракту со своим работником проезжал. Разбойник услышал, что едут, соскочил с облучка и скрылся в лесу, только красная рубаха замелькала в зелени… На всю жизнь запомнил Вася бледное чернобородое разбойничье лицо с бегающими глазами и дырявую кумачовую рубаху.
Черемуха
Сибирская черемуха — ягода особая. Крупная, черно-коричневая и терпко-сладкая. Собирают ее созревшую и сушат в печи, на поду, до шелеста. Потом толкут в порошок. Из толченой черемухи, распаренной с сахаром, делают знаменитые сибирские шаньги — треугольные и круглые ватрушки, смазанные сверху сметаной.
Прелесть какие шанежки пекла Прасковья Федоровна! Она начиняла их черникой, и черной смородиной, и черемухой. А каких только лепешечек из лесных ягод не заготавливалось на зиму! Их сушили и вялили на листьях в протопленных печах на поду, как сушат грибы, коренья и травы. Вася туесами приносил из тайги грибы и ягоды для зимних заготовок. И эта любовь к душистым, терпким ягодным яствам осталась у него на всю жизнь.
Двадцать пять лет спустя, работая над картиной «Утро стрелецкой казни», Василий Иванович просил прислать ему из Сибири какую-то шапку для стрельца. В этом же письме он писал: «Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам. Ну, бог даст, увидимся… Вот что, мама: пришлите мне сушеной черемухи. Тут есть и апельсины, и ананасы, груши, сливы, а черемухи родной нету…»
В Торгошине
Укутанный до глаз, прижавшись к матери, сидел Вася в сибирской кошеве, широкой и высокой, как горница. Ехали через Енисей в Торгошино. Ледяные буруны Енисея громоздились глыбами. Дорога была тряская — ледяные волны не укатаешь!
Васе хотелось высунуться, рассмотреть все получше. Но Прасковья Федоровна крепко держала его за плечи, пока не переехали Енисей и не выбрались на ровную, накатанную полозьями дорогу. Лошади резво бежали, и серебряные валдайские колокольцы под дугой вели чистый перезвон в сухом морозном воздухе. Жгучий мороз щипал за нос и за щеки, норовил пролезть под кошму, но отец положил сверху старую свою доху из козули. Под ней не озябнешь.
А в Торгошине их ждали жарко натопленные горницы. Их ждало угощенье за столом с большим медным самоваром и, уж конечно, миска с дымящимися пельменями, румяные шанежки и ароматное варенье…
Деревянной ложкой Вася уплетает пельмени, поглядывая на сидящую вокруг многочисленную родню. Больше всех он любил маленькую Таню — дочку Степана Федоровича и Авдотьи Васильевны. Таня сидит напротив — приветливая, с такими же карими глазами, как у Васи, поминутно улыбается ему и подмигивает: «Ешь, мол, пельмешки, голодный ведь с дороги!»
Прасковья Федоровна ест неторопливо, словно нехотя, и рассказывает городские новости. Братья и невестки слушают, расспрашивают.
После чая раскрасневшаяся гостья сбросила шаль с плеч, улыбнулась и говорит:
— А спойте-ка нам, сестрицы, давно мы песен ваших не слышали!
Сестры переглянулись, пошептались, и вдруг одна из них затянула ровным низким голосом: «Свила птаха гнездышко». Три голоса подхватили песню, потом влились еще три высоких и чистых, как ручьи, и потекла песня рекой, то перехваченная одним альтом запевалы, то вновь вбирая высокие голоса и разливаясь в многоголосии….
Вася слушал, слушал, и ресницы его стали слипаться от усталости, горячего чая и радушного тепла торгошинских печей.
— Эй, казак! Уснул, что ли? — тормошит Васю дядя Гаврила Федорович,
Все смеются: мать, дядя Степан, худая бледная жена его — тетка Авдотья, а звонче всех — шестилетняя Танечка.
— А ты, Авдотья, еще похудела? — вглядываясь в лицо невестки, говорит Прасковья Федоровна.
— К расколу ее тянет. В скит все ездит, — отвечает за жену Степан Федорович, поглаживая свою черную, как уголь, бороду.
— Дяденька, а что такое раскол? — отваживается спросить Вася, искоса поглядывая на тетку Авдотью.