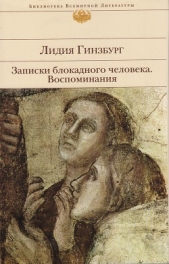Воспоминания пропащего человека

Воспоминания пропащего человека читать книгу онлайн
Автор, бродячий торговец книгами второй половины XIX в., много видавший и испытавший, рассказывает о своей своеобразной и богатой впечатлениями жизни: общение с уголовным миром (ночлежки, притоны, трактиры, тюрьмы), знакомства с известными литераторами (Н. С. Лесков, Г. И. Успенский, А. П. Чехов) и т. д. Впервые напечатанные в 1896 г., воспоминания Свешникова были переизданы в 1930 г. и давно уже стали библиографической редкостью. В предлагаемое переиздание включены также опубликованные и неопубликованные воспоминания о народной книжности (рыночные букинисты, уличные разносчики).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Контрагентом этой мастерской был немец Лишке, а мастером — Шульц.
Взрослые работали билеты для железных дорог и коробки для патронов, а малолетние, под руководством настоящих мастеров из арестантов, приучались к более искусной переплетной работе.
Сначала я тяготился продолжительностью моего ареста и уединялся. В праздники и свободные часы я кое-что почитывал; особенно сильное впечатление на меня имели две книги: «Несчастные» — Гюго [114] и «Между молотом и наковальней» [115] — Шпильгагена. Эти две книги подействовали на меня благодетельно: личность Жан-Вальжана пробудила во мне существовавшие от природы, но только на время застывшие добрые наклонности, выгнала все арестантские побуждения и злобу и более любовно заставила относиться к моим собратам. Я поставил себе за правило: никогда не быть доносчиком у начальства и, если бы пришлось ответить за чужую вину, то и тогда не выдавать настоящего виновника, не говорить о ком-либо дурного за глаза, не льстить в глаза, стараться быть примирителем между арестантами, а главное — никому не давать дурного совета, не научать, не подстрекать к чему-либо незаконному. Конечно, я не проповедовал, не навязывался никому с своими советами; но когда заходила речь, я всегда старался доказать, что приятнее делать добро, чем худо.
Книга же Шпильгагена, присланная мне Канаевым, заставила меня осознать справедливость покаравшего меня закона, подчиниться и строго исполнять установленные в исправительном заведении инструкции и полюбить смотрителя полковника Ахочинского [116], который был действительно почти отцом арестантов.
Кроме того, эти две книги вселили во мне надежду и по окончании ареста быть еще не совсем погибшим. Поэтому я хотя и жаждал свободы, но не роптал на свою участь; начальство относилось ко мне благосклонно, а товарищи-арестанты дружелюбно. Я мало-помалу начал привыкать и сближаться кое с кем. Так как я по своему развитию стоял выше большей части своих товарищей, то мне и удалось попасть в кружок более интеллигентных, если можно так выразиться, арестантов; но вместе с тем я не заносился высоко и с прочими и потому был между всеми своим человеком.
Работы для благородных арестантов, как я уже сказал, не были обязательными, но некоторые из них от скуки почти ежедневно приходили в нашу мастерскую и в чем-нибудь помогали. Всех я теперь не упомню, а двое из них: штаб-ротмистр Грекулов и лейтенант Хартулари — остаются для меня памятны.
Первый из них, хотя и очень неглупый и образованный человек, был ловелас и фат и содержался за бесчестье, нанесенное женщине, а второй — был с очень честными и гуманными убеждениями и безукоризненно справедливый: он был осужден на четыре месяца за оскорбление полицейского офицера.
Группируясь частенько в столовой во время праздников, мы иногда беседовали по несколько часов, и в этих беседах мои убеждения почти всегда сходились с убеждениями Хартулари, а с Грекуловым я, наоборот, постоянно спорил, и нередко дело доходило до того, что я обзывал его каким-нибудь неприличным словом, но он на это не очень сердился, потому что принужден был сознаваться, что мои выражения хотя и жестки, но справедливы.
В послеобеденное время, в часы отдыха, я иногда брался за перо и писал дневник, в котором набрасывал свои воспоминания, высказывал свои взгляды и убеждения, мечты и предположения о будущем; эти записки служили мне также утешением и развлечением.
Так прошло месяцев девять. Но в июле 1871 года стали носиться слухи об упразднении этого заведения и о переводе нас на Выборгскую сторону в исправительную тюрьму. По отзыву бывалых арестантов мы знали, что там несравненно строже, труднее и во всех отношениях хуже. Нам не хотелось верить этим слухам, но они оказались справедливыми, и мы не на шутку закручинились, особенно те, кому еще долго оставалось до освобождения. Мы нередко толковали об этом переселении и порешили держаться в новом месте заключения как можно дружнее и стараться добиться тех же льгот, какие мы имели в исправительном заведении.
В начале августа была отправлена первая партия арестантов на Выборгскую; часть малолетних также перевезли в колонию. Заведение пустело, и работы прекращались. Целые дни мы от нечего делать или собирались в какой-нибудь мастерской и рассуждали о предстоящем житье-бытье, или разгуливали по длинным коридорам и столовой.
Между арестованными находились двое пожарных Спасской части: они содержались за кражу. Фамилии одного из них не помню, а другой, Герасимов, слыл у нас за хорошего, прилежного работника, не любившего, как большинство других арестантов, пустословия, несварливого, даже уступчивого. Не знаю почему, но Герасимов был более расположен ко мне, чем к другим, работавшим с ним вместе, арестантам.
Однажды, войдя в мастерскую, в которой работал Герасимов, я застал его в какой-то грустной задумчивости. Он стоял, опершись локтем на машину, на которой резал бумагу, поддерживая ладонью голову. Я подошел к нему и спросил:
— О чем ты задумался?
— Да ведь вот, — отвечал Герасимов, — и нам уж скоро нужно будет отправляться на Выборгскую.
— Ну так что же?
— Да там, говорят, очень худо?
— Ничего, — сказал я, — будем подружнее, так наверно не обидят.
— Здесь на словах-то все дружны, а там, как дойдет до дела, и будут хвостом вертеть.
— Не все будут вертеть, найдутся и такие, что и не выдадут друг дружку — ведь это для своей же пользы.
Герасимов ничего мне на это не ответил. Он как-то в упор посмотрел мне в глаза, вздохнул и как будто еще более загрустил; но я в тот раз не придал никакого значения ни его печали, ни вздохам.
26 сентября мы с грустью простились с смотрителем и со всеми служащими исправительного заведения, сели в арестантские кареты, и нас повезли на Выборгскую.
Здесь сперва нас приняли ласково, даже как будто заискивающе. Особенно был любезен главный воротила и любимей смотрителя, полковника Михнева, старший надзиратель В. Минеев (теперь он агент сыскной полиции). Он обошелся с нами очень ласково и каждого назначал в то отделение и мастерскую, в какое арестант заявил желание.
Всех отделений в исправительной тюрьме на Выборгской было четыре, и при них мастерские: переплетная, столярная, портняжная и сапожная. Каждое отделение было устроено на полтораста человек; оно состояло из одной громадной палаты, посередине которой устроены были отделения для каждого арестанта, спальни, которые на ночь снаружи запирались.
Не вспомню теперь, где помешались остальные мастерские, но переплетная или, вернее, коробочная, в которой мы работали, примыкала к четвертому отделению.
Содержались мы в тюрьме с месяц или полтора, и после той свободы и того содержания какое имели в исправительном заведении, нам казалось действительно все горчее, особенно мы были недовольны пищей: хлеб нередко бывал такой, что из него можно было делать куколки, а о мясе и говорить нечего. Мы несколько раз обращались к старшему надзирателю и просили его похлопотать об улучшении нашего положения. Он каждый раз обещал исполнить наши просьбы, но тем не менее все крепче сжимал нас в своих ежовых рукавицах.
В конце октября или в ноябре, в воскресенье, придя из церкви, я прохаживался по мастерской. Прочие арестанты большею частью были в отделении или, собравшись кучками, беседовали около рабочих столов. Ко мне подошел Герасимов и, пройдя со мною раза два, сказал:
— Ну, сегодня чем-нибудь дело решится, либо всем будет лучше, либо хуже.
Я поглядел на него, и мне сделалось почему-то жутко. Я не спросил, что означают его слова, хотя и желал знать их смысл; но, вместе с тем, я как будто боялся услышать это объяснение, а Герасимов более ничего не говорил.
Пройдя еще раз по мастерской, я позвал его курить в ретирадное место. Но только мы успели закурить, как закричали: «На отделение! Полковник идет!»