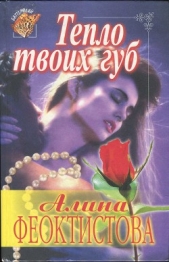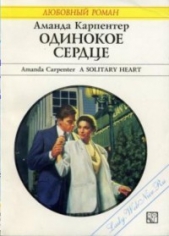Одинокое сердце поэта

Одинокое сердце поэта читать книгу онлайн
К 75-летию со дня рождения А. Т. Прасолова (1930—1972)
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тот год Прасолов прочитал недавно вышедшее собрание бунинских сочинений со вступительной статьей Твардовского. «Косцы», «Деревня», «Суходол», «Жизнь Арсеньева» — из самых задушевных, радостных, но и горьких его последних прочтений.
К Бунину, как и прежде и всегда к Пушкину и Твардовскому, поэт возвращался снова и снова, все более убеждаясь, что тот со своей неповторимой художественной убедительностью изобразил духовную и бытовую жизнь русской души, глубинные черты русского человека, где не только доброотзывчивость, смирение, милосердие, стремление к ладу, домостроительству, но и своеволие, смута «беловодьевских» упований, тоска по скитальчеству; и самое, быть может, разрушительное, жесткое — «русская страсть ко всяческому самоистреблению», «восстание на самих себя…» — эти слова из «Жизни Арсеньева» — вершинной бунинской книги — лебединой песни про державную, монархическую, православную Россию последних александровских времен поэт как бы прикладывал на разные эпохи. И — прикладывалось.
В посланном из Россоши письме к другу Василию Белокрылову, и по житейским корням, и по мыслям, настроениям близкому более других, писателю из донской Дерезовки, хлеб зарабатывавшему так же, как и Алексей Прасолов, районной газетной поденщиной, поэт, спрашивая, любит ли тот Бунина, настоятельно советует прочитать в последнем томе «Освобождение Толстого», биографические заметки: «да и вообще он страшно нужен нам весь — русский. Сейчас в стране нашей больше русских и нерусских эмигрантов, каким никогда не был Бунин и за рубежом».
Какое точное и пророческое наблюдение — еще из 1968 года — не бытовое, но социально-политическое; в сущности — трагическое! При названном раскладе сил и умов возможность устроения в стране новой «химеры» — не за горами: как ее не назови, — рыночно-демократической, грабительски-накопительской, либерально-федеральной, американо-президентской, финансово-олигархической… Не за горами — новый мировой диктат? Мировой порядок, подменяющий или вовсе поглощающий страны со своими самобытными культурами, мировой порядок — тотальная финансовая паутина, масс-культура, антидуховность?
По выходе из россошанского тубдиспансера Прасолов, даже если бы и мог, все-таки не смог бы заглянуть на былую свою квартиру: не хотел чувствовать равнодушие стен и окон к недавно еще протекавшей здесь жизни — его, жены, сына.
В Морозовку он решился идти пешком, как часто бывало в юности. Но он и в юности не был здоровяк, а теперь… Скоро схваченный знобкой ледяной дрожью, он вдвое медленней, вдвое дольше прежнего добирался до слободы. Холод был в природе, холод был в нем. Холод, стужа, метель, пурга, мороз — сколько их в его стихах, сколько их в его жизни! «Эй, мороз, мороз, не морозь меня…» — разве не эта песня всякий раз звучала на всех застольях и посиделках в слободе его детства? Да и сама слобода-то — Мороз-ов-ка: если отбросить суффиксы — чистый мороз!
С косогора, от железнодорожного переезда, открылась слобода. Большая. Холодная. Очужденная. Несколько сот хат, в каждой свой мир, и где счастье, где горе — не знаешь. Крестьяне, учителя, которым поэт многим обязан. Рассказать бы о них, как того заслуживают. Неизвестных сделать известными — в этом ли смысл, правда, добро? А иначе как? Стареют, как вещи, и уходят люди, и слобода теряет свою память. Вот и некогда известный Иван Домнич… Какой морозовский школьник знает о нем? А ведь уроженец Морозовки даже в «Тихом Доне» упоминается как командир красных конников. И это его конники, еще прежде схваток с казаками-повстанцами, у станции Пасеково, недалекой от Морозовки, остановили продвижение оккупационных кайзеровских отрядов на восток. Или Захар Закупнев — из соседней слободы Терновки? По сути, был до войны командующим Северной флотилией. Да кому теперь нужда в той флотилии вкупе с ее командующим? По Черной Калитве ей не плавать. И нет даже улиц, названных их именами. Даже мемориальных досок нет на непомнящей родине. Зато целой деревне приклеили имя Наума Анцеловича — комиссара над учреждениями интендантства, зам. начальника политотдела РВС Южного фронта. Поди, и сном-духом здесь не бывал. Зато — «кристальный и пламенный», пусть и третьестепенный.
И как глядел он с косогора, Морозовка, может, впервые после детских лет обрела черты истинной малой родины, зябкой, скромной, охватываемой взором и в то же время уходящей вдаль, к границам большой России. Сколько таких Морозовок на русской земле и в русской литературе!
Твардовский, его любимый поэт, сказал проникновенно и точно:
«…В творениях подлинных художников… мы безошибочно распознаем приметы их малой родины. Они принесли с собой в литературу свои донские, орловско-курские, тульские, приднепровские, волжские и заволжские, степные и лесостепные, уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем читательском представлении особый облик этих мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен…»
Скоро в повести «Жестокие глаголы» поэт посвятит свое строгое слово своей малой родине военного времени.
Пришел он к вечеру. Мать и отчим были дома. Проговорили допоздна.
А ночь выдалась бессонной. В этой маленькой бедной хатке — как в неразмыкаемом круге. Все — как в давние молодые дни. Бедным приходит человек в этот мир, бедным и уходит. Но не владеть внешним и не иметь зримого богатства — еще не бедность. Вспомнилось давно читанное, из Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе…» А он — словно где-то меж землей и небом. Он долго не мог уснуть и чувствовал, что мать чувствует, что он не спит. Давно уже покорилась она своей судьбе, готовая, как крест, нести странную сыновью жизнь. Но как-то со вздохом призналась, что доживала б свой век куда спокойнее, будь ее старший сын — сельский учитель, семейственный и непьющий.
В бессонной, сердце разрывающей муке старший сын как бы снова переживал свою и ее жизнь — самое памятное. Да, теплота материнских рук и солнечные блики криницы, и солнечный день в ячменном поле, на косовице. Но тут же чистое, солнечное затмевает черный дым от земли до неба… И перед глазами — оккупация. И никогда не дающее свободно вздохнуть далекое, но как вчерашнее, ненавистное нашествие, жестоко ранящее душу его родины, его Морозовки, его матери. И бессильная, словно в бездну падающая детская душа…
Но медленно проступил белый день, а день человеческий — век человеческий. Утром старший сын через огород вышел к берегу Черной Калитвы. В детстве речка была ему и кормилицей, и купелью отдыха, и наперсницей сердца. Здесь он отдыхал и рыбачил, мечтал и надеялся. И приобщался земли и неба, глуби и выси: речка отражала в себе и зеленые кусты, росшие из черноземной земли, и облака высокого неба.
Позже, куда бы он ни попадал, местная река обращалась в его слушательницу, собеседницу, вдохновительницу, и было их много: Сухая Россошь, Воронеж, Айдар, Толучеевка, Криуша, Девица, Битюг, Потудань, Богучарка, Савала, — похожие, как сестры, непохожие, как их имена.
В береговых наледях Черная Калитва черна по стремнинке, течет в ледяном створе убыстрение, словно чувствуя близость большой реки. У донской луки, у большой слободы она умирает, впадая в Дон; или, может, напротив, заново обретает рожденье?
Большая слобода у донской луки — Новая Калитва — его боль. Там родилась Вера Опенько. И так быстро угасла. Много пепелищ на его родине и в его душе. Но память о Вере — не пепел…
Прошлой весною, на пару дней заехавши в Новую Калитву, он вдруг резко, мучительно пожелал пройти тою дорогой от донской слободы до суходольного села, какою не раз ходила Вера. В попутчики он пригласил Белокрылова, и они уже поднялись по булыжниковой дороге вверх, за околицу, к развилке, но тут Прасолов вдруг сказал, что этот путь ему надо пройти одному. Было полнолуние, было светло как днем; цветший в логах боярышник был и призрачен, и сказочен, и шаровидные кусты его словно двигались. Что-то мешало ему идти. Может, мысль, что весь мир идет дорогой утрат. И все время стояла перед ним, идущим, картина — прошлогодний рассказ случайно встреченного знакомого — рассказ, больше похожий на творимую легенду.