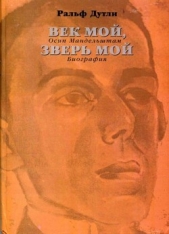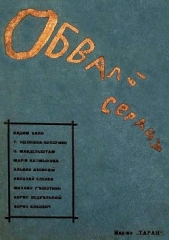Осип Мандельштам и его солагерники

Осип Мандельштам и его солагерники читать книгу онлайн
Новая книга Павла Нерлера — реконструкция последних полутора лет жизни О. Э. Мандельштама: от возвращения в середине мая 1937 года из воронежской ссылки в Москву (точнее, в стокилометровую зону вокруг нее) и до смерти поэта в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года. Но и в лагере поэт был не один, а в массе других заключенных, или, как он сам выразился, «с гурьбой и гуртом». Автор собрал по крупицам сведения и о тех, кто окружал поэта в эшелоне и в лагере, и кто являл собой тот своеобразный гулаговский социум, в котором протекли последние недели жизни поэта. В разделе «Мифотворцы и мистификаторы» собраны различные отголоски лагерной жизни и смерти поэта, звучащие в прозе Варлама Шаламова, стихах Юрия Домбровского, песне про товарища Сталина и др., а в разделе «Следопыты» показана история поиска Надеждой Мандельштам и другими энтузиастами сведений о тюремно-лагерном — завершающем — этапе жизни Осипа Мандельштама. В приложениях публикуются полный именной список «мандельштамовского эшелона» и рассказ о непростой истории первого в мире памятника поэту, созданного в 1985 году и впервые установленного в 1998 году во Владивостоке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Милый Борис! <…> Я знаю, что вы единственный человек, который разделяет мое горе. Спасибо вам, друг мой, за это» [259].
Или:
«После Оси вы мне самый близкий человек на свете» [260].
Упомянутая уже тема личной встречи — в Струнино ли, в Шортанды ли — поселилась в переписке с сентября. 20 сентября:
«Что касается до моего приезда — я конечно приеду. Но когда? Сейчас я буду ждать письма [261]. Думаю, что не дождусь. Через сколько времени я поверю в то, что его не будет? Просто не представляю…» [262]
А вот из письма от 14 октября:
«Я к Вам обязательно приеду. <…> По всей вероятности, это будет в апреле. <…> Я боюсь, что мы никогда не увидимся. И я боюсь встречи. Ведь мы оба, наверное, стали другими за эти годы. Мы не узнаем друг друга» [263].
22 октября она написала свое последнее письмо мужу [264]. Но — отчаявшись — не отправила его.
Настроением и стилистикой письмо это — словно продолжение и часть ее переписки с Кузиным — переписки, некогда столь привычной и столь дорогой всем трем корреспондентам.
Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.
<…> Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь…
Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова, и всё безумие, с которым мы прожигали наши дни, — какое это было счастье — и как мы всегда знали, что именно это счастье!
<…> Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.
Это я — Надя. Где ты? Прощай.
На ноябрьские праздники Н. Я. ездила в Москву. Вернулась в Струнино, по-видимому, только в четверг, 9 ноября [265], ибо занаряжена была в ночную смену.
В ту же ночь, а может быть и в пятницу (впрочем, не исключена и суббота), в цех вошли —
«…двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу — отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании — лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться, потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.
В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. <…> Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская меня спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку…»
Судя по тому, что в принстонском архиве сохранилась струнинская трудовая книжка Н. Я., именно так Н. Я. и поступила — пришла в понедельник в отдел кадров, уволилась и уехала. Но сама Н. Я. дорисовывает иную картину:
«К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали — к ним прибежал кто-то с фабрики рассказать, что меня потащили „в кадры“. Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: „Выпьем, а потом рассудим, что делать“.
Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали приходить рабочие. Они говорили: „Уезжай“ и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяин с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после „проводов“, которые мне устроили, мне, конечно бы, не уцелеть…» [266]
Э. Штатланд, посвятивший всевозможным «разоблачениям» Н. Я. специальный блог, не поверил в этот рассказ, усомнившись в реальности такой демонстрации солидарности со стороны текстильщиков в адрес незнакомой им интеллигентной тазовщицы. Сомневаюсь в его достоверности и я.
Но не соглашусь с тем, что такая «новелла» — чуть ли не операция прикрытия якобы для оправдания побега именно в Шортанды, о котором Н. Я. в своих книгах даже не упоминает.
Несомненно одно: в Струнино Н. Я. укрывалась и укрылась от калининских «голубчиков» (так называет она гэбэшников за их голубые околыши и фуражки). После того как фабричный отдел кадров заинтересовался ею (так ли театрально, как с парой чистеньких молодчиков, отключающих ночью машины ради прогулки с Н. Я. по цехам, или как-то менее театрально), оставаться здесь стало небезопасно. Нужно было еще раз перепрятаться, чтобы укрыться от голубчиков уже струнинско-владимирских.
Но где? Москва и Питер отпадают. Оставалось всего два места на земле, где ее, беженку, не попросили бы назавтра же вон, как это сделала семья брата арестованного Бена Лившица с его женой и сыном. Эти два места — Воронеж с «ясной Наташей» и Шортанды — с человеком, некогда разбудившим Мандельштама своей дружбой.
От Наташи уже давно не было писем, но, даже если бы и были, Н. Я. все равно предпочла бы Шортанды, куда уже мысленно собиралась — правда, не раньше апреля [267].
Во «Второй книге» она пишет о Струнино и обо всей ситуации так:
«Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой, бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах» [268]
О том, куда она ускользнула, Н. Я. сочла за благо не написать.
Знали об этом только брат с невесткой, Осин Шура с женой и Шкловские (путь в Шортанды пролегал через Москву, разумеется). Даже подружке Эмме, щадя ее «стародевичье воображение», Н. Я. предусмотрительно ничего не сказала. Сказала уже потом, но не уточняла, когда это было [269]. А та сама не догадалась, иначе бы вся зашлась в «комментариях» и «интерпретациях» очередного Надиного «адюльтера»!
В Шортандах Н. Я. пробыла месяц или больше, вернувшись в Москву только накануне самого Нового года.
В ее отсутствие произошло то, из-за чего она так не хотела уезжать. Из-под Владивостока пришло Осино письмо — самая настоящая, без натяжек, весточка с того света. Вообще-то допускалась отправка и получение до двух писем в месяц. Но других писем Мандельштам, кажется, и не писал [270].
Написанное примерно 7 ноября [271], переваренное цензурой и отправленное из лагеря 30 ноября, оно достигло Москвы, судя по штемпелю, 13 декабря. Значит, адресату оно было доставлено 14 декабря.
Прочтя и перечтя письмо, Шура бросился со Старосадского на Страстной, к Евгению Яковлевичу. Он-то и отправил Осе 15 декабря денежный перевод и «глупую» радиограмму: мол, не волнуйся, Надя под Москвой. Тогда же телеграмма ушла и в Шортанды, где подействовала скорее расслабляюще: Ося жив!