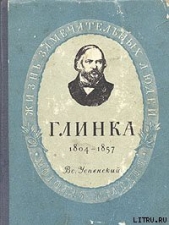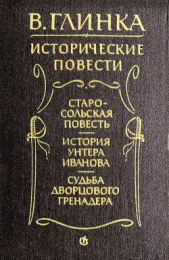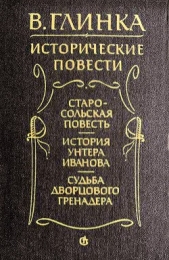Михаил Иванович Глинка

Михаил Иванович Глинка читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но кроме этих близких дружеских домов, Глинка в 1842 году посещал и то петербургское общество, которое было оставил за несколько лет, и это случилось следующим образом. „Появление Листа в Петербурге, в феврале 1842 года, — говорит Глинка, — переполошило всех дилетантов и даже модных барынь. Меня, отказавшегося от света с ноября 1839 года, снова вытащили на люди, и забытому почти всеми русскому композитору пришлось снова являться в салонах нашей столицы, по рекомендации знаменитого иностранного артиста… Кроме В[иельгорского] и О[доевского] я бывал с Листом у Р[остопчиной] и у П[алибиной]; у О. Лист сыграл à livre ouvert несколько нумеров „Руслана“ с собственноручной, никому еще не известной моей партитуры, сохранив все ноты, ко всеобщему нашему изумлению. Обращение и приемы Листа не могли не поразить меня странным образом, ибо я тогда не был еще а Париже, и юную Францию знал только понаслышке. Кроме очень длинных волос, в обращении он иногда прибегал к сладкоразнеженному тону (mignardise), по временам в его обращении проявлялась надменная самоуверенность (arrogance). Впрочем, несмотря на некоторый тон покровительства, в обществах, особенно между артистами и молодыми людьми, он был любезен, охотно принимал искреннее участие в общем веселье и не прочь был покутить с нами. Когда мы встречались в обществе, что случалось нередко, Лист всегда просил меня спеть ему один или два моих романса. Более всех других нравился ему „В крови горит“. Он же, в свою очередь, играл для меня что-нибудь Шопена или „модного“ Бетховена… Я вел тогда жизнь весьма приятную: утром переделывал танцы и немногие недоконченные нумера из оперы; в двенадцатом часу утра отправлялся на репетицию в залы театра или в театральную школу; обедал я у матушки, [43] и проводил в семействе послеобеденное время; вечером обыкновенно ездил в театр, где оставался почти все время за кулисами. Когда вечером я возвращался домой, сестра Ольга встречала меня со смехом, и на вопрос мой: „Чему ты смеешься, Oline?“ отвечала: „Вы пришли, значит, смех будет“. Действительно, не проходило четверти часа, как я уже смешил сестру и матушку“.
Наконец, постановка оперы была совершенно кончена. „Костюмы для главных действующих лиц сделаны были по указанию Карла Брюллова; Брюллов сообщил также свои соображения о декорациях Роллеру, который еще до того написал масляными красками эскизы декораций для „Руслана и Людмилы“, которые находятся теперь у Нестора Кукольника“. [44]
Осенью принялись за пробы, сперва в залах, потом на сцене, и тут начались бедствия Глинки. Друзья и знакомые стали делать (как всегда в подобном случае) свои замечания, давать свои советы, и Глинка имел слабость и доверчивость послушаться большей части этих внушеций. Рассказ его об этих подробностях сохранит для истории, с одной стороны, образцы нелепых суждений и малотолковой критики, обыкновенно происходящих от „друзей“ и „приятелей“, а с другой стороны, доказательство той необыкновенной скромности и мягкосердечия, с которыми Глинка мог им подчиняться. Немногие композиторы нашего времени согласились бы на подобное уродование своего произведения (особливо такого, которое является гениальным, новым начинанием невиданного и неслыханного нового рода) и вдобавок признавали бы еще как бы законность и необходимость этих урезок. „На пробах оказалось, — говорит Глинка, — что многие нумера нужно было сократить, а именно: из интродукции надлежало исключить вторую песнь Баяна „Есть пустынный край“, [45] равным образом все окончательное развитие (développement et péroraison) главной темы „Лейся полнее, кубок златой“ нужно было исключить впоследствии. В финале первого акта сокращен хор Лелю (H-dur, в 5/4). Во втором акте баллада Финна оказалась длинною, но я не сократил ее, и публика впоследствии привыкла ее слушать, как она первоначально написана. Хор Головы, т. е. финал второго акта, на который я очень, рассчитывал, решительно не удался, и пели его так неверно, что мне самому не в силу было слушать его. В третьем акте, вместо написанного мною чрезвычайно трудного антракта, надлежало начать прямо с хора „Ложится в поле мрак ночной“, которого первые куплеты поются за кулисами. В финале терцет „Зачем любить, зачем страдать“ надлежало исключить, потому что он замедлял ход драмы. В четвертом акте сцена Людмилы, за которую во время репетиций в залах благодарила меня Степанова, на сцене совсем не вышла, и меня упрекали, что я нехорошо расчел сценический эффект. В финале этого и последнего акта надлежало также многое сократить.
Увертюру прямо на оркестр я писал нередко во время репетиций в комнате“.
За несколько времени до первого представления новой оперы появились в печати три статьи, которые как бы приготовляли публику к тому, как она должна принять „Руслана и Людмилу“. Одна из них была помещена в „С.-Петербургских ведомостях“ (1842, № 260) неизвестным автором, который подписался под нею так: „Любитель музыки Глинки, правды и умеренности“; другая была напечатана в ноябрьской книжке „Библиотеки для чтения“ и высказала надежду, что публика внимательно вникнет в гениальное произведение Глинки, полное оригинальных красот, вступившее на пути, никем еще не испробованные; наконец, третья статья, помещенная в „Северной пчеле“ (№ 250, 7 ноября), произносила несколько похвал Глинке, но не без сомнения относительно успеха, которое могло дурно настроить публику и артистов. Вот что было, между прочим, сказано в ней: „…Мейербер, Галеви и даже Обер пишут на известные таланты, а для кого будет писать Глинка? Не думаем, чтобы наши артисты разгневались, когда мы скажем, что в нашей оперной труппе нет ни Малибран, ни. Пасты, ни Персиани, ни Гризи, ни Альбертацци, ни Тамбурини, ни Рубини, ни Дюпре и проч. Сочинять нельзя иначе, как по инструменту… Наша оперная труппа, разумеется, выше всякой водевильной, даже приближается к парижской Opéra Comique; но для оперы большого размера, для оперы séria, или даже россиниевских опер у нас нет средств. Спрашиваем теперь: что должен был делать Глинка? Разумеется, сообразоваться с средствами или не писать вовсе русской оперы… И талант Глинки должен был сгибаться и сжиматься по силам и средствам артистов. Нам кажется, что некоторые наши журналисты поторопились, говоря решительно о достоинстве оперы „Руслан и Людмила“, слышав только отрывки или быв на пробе. И мы слышали года за два перед сим отрывки из этой оперы и были в восхищении; но надобно знать, каково это будет в целом, как будет слито с общею идеей оперы. Тут настоящее искусство. В этой опере собраны характеры музыки почти всех племен, населяющих Россию. Инструментовка совершенно оригинальная, не виданная и не слыханная доселе! Музыканты говорили нам, что Глинка перехитрил в оркестровке, т. е. что он ввел необычайные трудности. Вопрос: победил ли он эти трудности? и воля ваша, мы не верим на слово гг. музыкантам, а особенно композиторам. Послушаем, изучим, посоветуемся с людьми знающими и тогда выскажем наше мнение, но все же вперед можем ручаться, что опера „Руслан и Людмила“ никак не может быть посредственною, потому что создана необыкновенным талантом!“
Любопытнее всего в этой статье то, что она именно противоречила настоящему делу. Автор прежде напечатания вздумал было однажды высказать эти самые мысли о недостаточности артистов наших Глинке прямо в лицо, вероятно, для того, чтоб заставить его самого согласиться, что опера его не могла быть хороша теперь, хотя бы даже он и имел возможность написать истинно хорошее произведение. Но Глинка отвечал ему, что „писал свою оперу, зная уже тех артистов, которые будут ее исполнять; что он сообразовался с их средствами и вполне ими доволен“. Этот ответ был тем более справедлив, что Глинка никоим образом не мог бы и не имел бы права пожаловаться на то, чтоб артисты здешнего театра стеснили его талант и его композиторские намерения: итальянские виртуозы, как упомянутые „Северною пчелою“, так и вообще всякие другие, вовсе не годятся для исполнения такой музыки, как та, которой Глинка посвятил всю жизнь свою и к которой одной он был способен. Они имеют свою особую сферу, свой круг сочинений, за пределы которых не могут выходить безнаказанно, как это доказал опыт всех европейских театров в последние пятнадцать или двадцать лет, и Глинка был бы именно тогда только стеснен в высочайшей степени и должен был бы сгибаться и сжиматься, когда принужден был бы сочинять для той или другой итальянской труппы. Можно сказать, что в подобном произведении гения Глинки вовсе невозможно было бы и найти. Но, кроме того, должно заметить, что Глинка имел для своей оперы в распоряжении превосходнейший оркестр, не превзойденный никаким другим европейским, прекрасные хоры, несколько артистов, им самим избранных и, так сказать, воспитанных, и, наконец, в числе артистов, весьма замечательных, такую певицу, как г-жа Петрова, которая, по словам самого Глинки, обладала дарованием редким, необыкновенною страстностью и симпатичностью исполнения и при этом владела голосом, который по объему и совершенству принадлежал к числу явлений почти феноменальных.