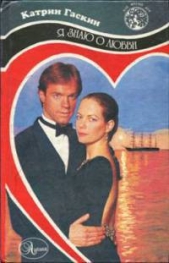Николай Гумилев
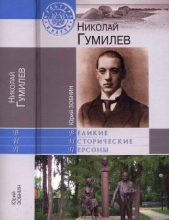
Николай Гумилев читать книгу онлайн
Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очень интересна в этой связи эволюция образа храмовой молитвы в произведениях Гумилева — от ранних, декадентских лет, до акмеистического перелома начала 1910-х годов и далее — в поздние, «классические» годы творчества.
В ранних стихотворениях и поэмах чаще всего встречается крайне неопределенная картина, стилизованная в духе тогдашней литературной моды под «оккультные образцы» с их тяготением к античным культовым действам. Речь идет о «зеленом храме» («Император Каракалла», «Вы все, паладины зеленого храма…»), напоминающем либо языческие капища в чащах или на вершинах гор, либо римские садовые алтари, посвященные пенатам. Иногда добавляются штрихи, воскрешающие в памяти древнегреческие храмовые строения, — упоминается о «белом мраморе», «покое колоннады» («Осенняя песня») и т. п. В таком храме герои Гумилева молятся «новой заре» («Император Каракалла»), «переменным небесным огням» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), иногда — просто бросают на алтарь «пурпурную розу» в качестве жертвы, «дрожа» при этом от мистического восторга («Осенняя песня»). Собственно же «молитвы» их представляют собой либо стихотворную рецитацию, либо магические заклинания, либо неназываемые «таинства обряда» («Озеро Чад»).
В этой модернистской оккультной эклектике можно, пожалуй, выделить лишь два мотива, обещающие в будущем развитие гумилевского художественного мышления в сторону воцерковления. Во-первых, фантастический «храм» раннего Гумилева всегда— «строг»:
В этом храме «быть нельзя / Детям греха и наслажденья», здесь — царство печали, покоя, «снегового холода» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), культ, протекающий в пределах гумилевского «зеленого храма», требует исключительного целомудрия, так что охваченные «пьянящей» страстью любовники должны покинуть «священные рощи» («Любовникам»), Не случайно, что то же художественное определение присутствует и в единственном стихотворении в раннем творчестве Гумилева, где образ храмовой молитвы обретает «конфессиональную конкретику»:
В стихотворении рассказывается о реально существовавшем лице, жившем в XVII веке, — рыцаре ордена Калатравы Мигуэле де Маньяра, и поэтому видеть здесь нечто большее, чем простое следование историческим реалиям, вряд ли уместно. Однако само совпадение эпитетов, относимых Гумилевым как к христианскому собору, так и к условному «зеленому храму», заставляет задуматься над символической природой последнего образа. По крайней мере сакраментальная сторона бытования «зеленого храма» в художественном мире раннего Гумилева явно тяготеет к христианскому пониманию храмовой молитвы и обрядности. Экзотические стороны язычества, которые традиционно привлекали «старших» декадентов-литераторов (оргиазм, кровавые жертвы и т. п.), здесь нарочито игнорируются, а вот аскетическая «строгость», исторически свойственная даже не католическому, а именно православному опыту церковной жизни, явно выступает на первый план.
Во-вторых, молящемуся в «зеленом храме» герою неоднократно является «неведомый Бог»:
Упоминание о «неведомом Боге», да еще в таком контексте, который мы видим у Гумилева, сразу заставляет вспомнить известный эпизод «Деяний Апостолов» — проповедь Павла в Афинском ареопаге: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17: 22–23). К этому следует добавить, что среди вполне «языческих» картин у раннего Гумилева вдруг, словно помимо воли, некстати, «всуе», поминается Христос. Так, например, как в «огнепоклонническом» стихотворении «Я не знаю, что живо, что нет…»:
В годы «бури и натиска» акмеизма образ храма в творчестве Гумилева резко меняется. Декадентский «зеленый храм» объявляется «лживым» и предается в «Балладе» 1910 г. символическому сожжению:
Место «лживого храма» занимает теперь храм христианский, однако облик его еще не определен в полной мере: это некая романтическая храмина вроде святынь средневекового мистического христианства, символику которого затем задействовали масонские ложи:
Об увлечении Гумилева масонством во время создания «Цеха Поэтов» и полемики вокруг акмеизма автор этих строк уже достаточно подробно говорил в одной из предыдущих работ (см.: Зобнин Ю. В. Странник духа // Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. C. 34–37). Не повторяясь, добавим, что, как мы увидим далее, в свете эсхатологических прогнозов Гумилева, опыт тайной мистической деятельности масонских обществ мог интересовать его, особенно в канун войны и революции, еще и с чисто-практической стороны: в грядущем «царстве Антихриста» христианство из религии победившей вновь обращается в гонимую, уходит в подполье, чтобы продолжить теперь уже тайную борьбу с открыто торжествующим злом «века сего», — а Гумилев твердо решил петь старые песни» («Канцона») и оставаться христианином до конца. Впрочем, увлечение масонством у Гумилева не было долговечным: если в первой редакции «Пятистопных ямбов» (1912) мы еще видим храм, созидаемый «братьями-каменщиками» под наблюдением «Великого Мастера», то в окончательном варианте поэмы (1915) вместо него уже фигурирует православный «золотоглавый монастырь» и звучит православная молитва Богородице — «Честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим».
По мере воцерковления творческого мировоззрения поэта романтические фантазии уступают место размышлениям о судьбах конкретных христианских конфессий, возникших после раскола 1054 г. и Реформации. Среди подобных стихотворений особое место опять-таки занимают тексты, посвященные описанию храма и храмовой молитвы у католиков и протестантов — «Падуанский собор» и «Евангелическая церковь», — причем ход мысли лирического героя доказывает знакомство Гумилева с основами православного сравнительного богословия.