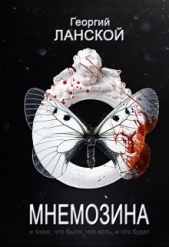Таков мой век

Таков мой век читать книгу онлайн
Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не узнавала петроградских улиц: по ним разгуливали разнузданные солдаты, какие-то люди в картузах; спешили прохожие в гражданском платье. И еще одна невидаль: очереди перед булочными и молочными лавками. «Скорей, скорей, — повторял кучер, — не то снова начнется!» Свобода обернулась к нам другой своей стороной — беспорядком.
Моя старшая сестра была в то время с тетушкой в Севастополе. Не желая занимать слишком большую для нас квартиру на Васильевском, моя мать сняла на месяц-другой меньшую на Фурштатской. В ней-то мы и пережидали события, но выходить из нее нам, детям, не разрешалось. Одной из причин запрета было то, что Дмитрий отказался ходить без мундира, несмотря на оскорбления, которым подвергались на улицах учащиеся привилегированных учебных заведений. Под нашими окнами проезжали грузовики с рабочими. Однажды мы видели, как Родзянко, бывшего председателя Государственной Думы, демонстранты триумфально несли на руках.
Дмитрий продолжал свой семейный репортаж, предназначенный дядюшке Петру Нарышкину: «В Петрограде происходит что-то ужасное, настоящие сражения. На сторону восставших перешло пять полков. На Литейном, где мы живем, перестрелка не утихает. Стреляют не только из винтовок и пулеметов, но даже из пушек. Офицерам нельзя показаться на улице: солдаты отнимают у них оружие, издеваются над ними и иногда даже убивают. Полиции больше не существует. Убили двух приставов. Хуже всего то, что солдатам удается добывать водку и они напиваются. Опасаются повальных ограблений магазинов, банков, частных квартир и т. д. Сегодня распустили Думу и Государственный Совет. Нас, лицеистов, отправили на каникулы, пока все окончательно не успокоится. Но когда оно наступит, это окончательное спокойствие?»
Под прикрытием революции начали сводить и личные счеты. Многим людям приходилось ночевать каждый день на новом месте: обыски и аресты чаще всего производились под утро. Так, однажды у нас появилась, совершенно растрепанная, родственница нашей матери. Мужа ее, полковника, только что арестовали.
— Если придут, — попросила она, — скажите, что я сестра милосердия.
Наш друг Григорьев, полицмейстер, отправил семью в безопасное место и был дома один, когда в дверь позвонили солдаты. Быстро облачившись в белый фартук и колпак своего повара, с таким же брюшком и такого же дородного, как и он сам, хозяин дома стал водить незваных гостей по всем комнатам, по всем закоулкам своего дома в поисках себя самого. Как только солдаты удалились, он «подался в бега».
Какому-то генералу удалось пропихнуть свой револьвер за окно, на внешнюю часть подоконника, и таким образом доказать, что он безоружен.
В иных случаях солдаты, напротив, оберегали своих офицеров. Так, к отцу моего будущего мужа, офицеру запаса, служившему во время войны в Петрограде, пришло однажды несколько солдат; они поселились у него на квартире, чтобы с ним ничего не случилось.
Моя мать отправлялась в город одна, без нас, узнавать новости. Она была хорошо знакома с князем Львовым, тогдашним председателем Временного правительства. В 1905 году князю была поручена организация помощи голодающим, в ней принимала участие и моя мать.
Направляясь в Таврический дворец, который прекрасно был ей знаком (она живала в нем у своей тетушки, фрейлины вдовствующей Императрицы), моя мать задержалась по пути из-за толпы, скопившейся у дворца Кшесинской. Стоя на балконе, Ленин произносил речь. Она остановилась послушать, и личность оратора произвела на нее впечатление. Она нашла, что его речь своей демагогией могла понравиться народу. Разумеется, он и не думал в те дни излагать подлинную программу коммунистической партии, и его обещание «земли народу» оказалось в свете дальнейших событий простой ловушкой.
Когда князь Львов принял мою мать, она сразу заговорила с ним о Ленине.
— Полноте, — ответил князь, — он не опасен. Мы его арестуем, когда и где захотим, если сочтем это необходимым.
Перейдя затем к своим личным заботам, моя мать попросила у него совета. У нее оставалось еще достаточно денег, чтобы уехать с нами в Финляндию и там переждать.
— Да нет, зачем же! Все скоро уляжется, восстановится порядок. А долг сейчас у помещиков один: вернуться на свои земли и помогать народу в осуществлении его новых задач. Люди доброй воли нам нужны, и чем больше их будет, тем лучше.
Так же думал и мой отец, для которого жизнь вне России вообще не имела смысла. Он приезжал в Петроград повидаться с нами, но тут же воротился в деревню. В Матове все было спокойно, и отношения отца с крестьянами оставались прекрасными. «Все образуется», — любил он повторять. И в конце концов все решила телеграмма из Прони. Управляющий сообщил моей матери, что крестьяне вот-вот все подожгут и что он предпочитает уехать, так как больше не может нести возложенную на него ответственность.
Так оставили мы Петроград, где события разворачивались все стремительнее, и отправились в Проню. Однако, прежде чем вывезти всех нас в деревню, моя мать решила посмотреть, какова там обстановка, и оставила нас на время у родственников в Москве. До своего отъезда она успела получить предложение от Полякова, очень видного финансиста, желавшего приобрести (риск в делах необходим) уральское имение, унаследованное нами от дяди Вани. Поляков предлагал миллион. Моя мать как опекунша хотела получить за него несколько больше. Сделка так и не состоялась, но, повернись дело иначе, мы ничего бы не выиграли. Жребий был брошен. Рубль падал с каждый днем; экспортировать капитал не представлялось возможным. Как большая часть состоятельных русских людей, мои родители в начале войны отозвали в Россию все свои деньги, о чем просил Государь.
Москва, более приверженная традициям, менее индустриальная, чем Петроград, пребывала в ожидании. Общее настроение было еще вполне благодушным, и наша двухнедельная остановка в одной из арбатских улочек стала своеобразной и живописной передышкой. Мы поставили свечку Иверской Божьей Матери в часовне, впоследствии взорванной коммунистами; осмотрели Кремлевский музей, который я снова увижу совершенно неизменившимся в 1956 году. Правда, на улицах мальчишки продавали «Кровавую историю Французской революции» — наспех изданную брошюру, имевшую цель пристрастить русских людей к вкусу крови. Как-то раз моя тетушка вернулась домой пышущая гневом и рассказала, как влепила пощечину уличному торговцу за то, что он выкрикивал: «Почитайте, как Сашка Гришке рубаху справила!» (Имелись в виду Александра Федоровна и Распутин).
Много родственников было у нас в Москве. С большинством из них я виделась тогда в последний раз. Зеленоглазая красавица Варя, моя кузина, сойдет с ума; старший ее брат будет убит. Младший, шестнадцатилетний защитник Манежа, куда во время октябрьских событий засели юноши, сражающиеся против коммунистов, будет позже сослан, лишен гражданских прав, проведет долгие годы в сибирских лагерях. После разоблачения культа личности Сталина ему наконец разрешат вернуться в Москву; отсутствие его длилось тридцать восемь лет. Я надеялась с ним встретиться, но не пришлось: в самую ночь своего возвращения он скончался от инфаркта в нескольких метрах от дома, где я тогда жила.
Но пока в древней русской столице ничего трагического не происходило. Няня моя Клеопатра, пользуясь случаем, решила немного поразвлечься и тайком водила меня с собой. Память у меня превосходная, и я помню до сих пор, как развлекались москвичи в памятном «Божьей немилостью» 1917 году.
Я видела забавную евреиновскую «Вампуку» — оперу-пародию, где влюбленная пара, нежно обнявшись, долго пела, не двигаясь с места и с непоколебимой серьезностью: «Мы бежим, бежим, бежим…». «Эфиопы» воинственно бегали и распевали: «Мы э… мы э… мы эфиопы, Мы про… мы про… противники Европы!» — а это уже было почти пророчеством. В театре «Кривое Зеркало» я посмотрела и некий фарс под названием «Судьба человека» — сатирическое представление о только что провозглашенном равноправии женщин. Двое мужчин, в кружевных пижамах, в локонах, натирали до блеска ногти (лака тогда еще не изобрели), сидя в розовом будуаре, и болтали о пустяках в ожидании своих супруг — мужеподобных, коротко стриженных, одетых в строгие темные костюмы. Они возвращались домой к обеду, каждая из своего министерства, неся под мышкой набитый бумагами портфель.