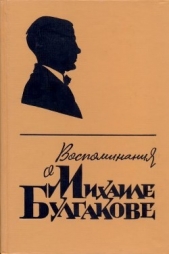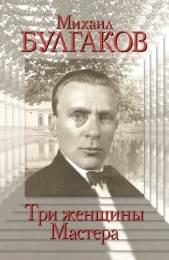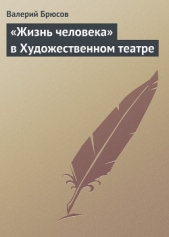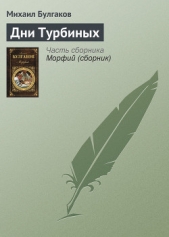Михаил Булгаков в Художественном театре

Михаил Булгаков в Художественном театре читать книгу онлайн
Михаил Булгаков говорил, что проза и драматургия для него как правая и левая рука пианиста. Но, если о прозе автора «Мастера и Маргариты» написано довольно много, то театральная его судьба освещена еще недостаточно. Книга А. М. Смелянского рассматривает историю таких пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене МХАТ. Завершается книга анализом «Театрального романа», как бы подводящего итог взаимоотношениям Булгакова и Художественного театра. Книга иллюстрирована. Рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся театром.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спектакль, созданный в системе «условного театра», порой читается как по нотам. Его рисунок ясен, его пульсация отчетливо слышна. Нотная запись «Дней Турбиных» жила в неровном дыхании человеческой материи, в оттенках интонаций и переходов, в тревожном предчувствии и переломах настроения, которые действуют магнетически, но меньше всего поддаются словесной реконструкции. Историк может сообщить, что в первый год после премьеры на каждом спектакле дежурила бригада «Скорой помощи», нередко случались истерики и обмороки и приходилось (этот факт отмечен А. Гавриловым) выносить человека во время действия из зала. Гибель Алексея Турбина или принос раненого Николки переживались зрителем, приученным Художественным театром к восприятию театрального акта как акта реального, как обжигающие факты вчерашнего дня русского интеллигента.
Конечно, зал не был однородным, как не были однородными и споры вокруг спектакля. В одной из первых антитурбинских статей передается эмоциональная атмосфера октября 1926 года: «Конкретные результаты: на просмотре в МХАТ какой-то гражданин, обливаясь слезами, орал „спасибо“, а на диспуте в Доме печати одна из гражданок патетически взвизгнула „все люди братья“ 1.
При всем презрении пишущего и к этому гражданину, и к этой гражданке, он оставил драгоценное свидетельство, которое сегодня воспринимаешь как прямое отражение пафоса спектакля, того, что можно назвать его человечностью в самом обычном и простом смысле слова.
Эстетика „минус-приемов“ начиналась уже во внешнем решении спектакля. В эпоху господства конструктивистской декорации Н. Ульянов поставил на мхатовской сцене традиционнейший павильон. Перед зрителем открывалась большая столовая киевского профессорского дома с камином, мебелью красного дерева и бронзовой многосвечной люстрой. Кремовые занавески на окнах, примирительная голубовато-серебристая окраска обоев, строгие и точные линии немного скошенной комнаты — вся атмосфера дома воспроизводилась поначалу в чеховских тонах. Это был знак преемственности спектакля, его родовой принадлежности. „Грузный, тяжелый павильонный натурализм четвертьвековой давности“, — съязвит Э. Бескин.
„Четвертьвековой давностью“, казалось, дышал и быт дома: мирным боем били часы, звучал нежный менуэт Боккерини, скатерть была, как всегда, белоснежной, накрахмаленной, на рояле стояли цветы. Уют дома был традиционным, „кричаще традиционным“. „Все было сделано так, чтобы можно было посмотреть в лицо человека“ 2, — с обычной точностью сформулирует в 1927 году П. Марков.
Реальная жизнь врывалась в дом Турбиных внезапно гаснущим электричеством, тьмой, в которой колебалось неверное пламя свечей, тенями по стенам, которые то сходились, то расходились, воем ветра, гулкими пушечными ударами, доносившимися издалека, гудением проводов. История правила сбивчивым ритмом турбинской жизни, тяжелым осадком выпадала в горящих темных глазах Алексея Турбина, прорывалась в безнадежно отчаянных юнкерских песенках Николки и, наконец, обнаруживалась во плоти, когда турбинский дом исчезал, а на месте его возникал штаб петлюровской дивизии или парадные марши гимназической лестницы, усыпанной мятущимися юнкерами. Начинаясь в чеховских тонах и атмосфере, спектакль затем резко и вызывающе брал новые для сцены Художественного театра ноты жизни, которая объединяла тех, кто был на сцене, с теми, кто сидел в зрительном зале. Негласный закон отождествления зрителей с судьбой сценических героев действовал тут с откровенной силой и прямотой.
Прежде всего, конечно, поражала и приковывала внимание фигура Алексея Турбина — Н. Хмелева. В дни премьеры актеру было двадцать пять лет, на пять лет меньше, чем его герою. Хорошо известно, что эта работа не только открыла масштаб хмелевского дарования, но и человечески пересоздала его. Судаков напишет потом, как Хмелев, в мучительных поисках „зерна“ турбинского характера, однажды пришел на репетицию, и все заметили в нем „поразительную перемену, начиная с костюма, и в каждом движении, и в том, как он здоровался, как говорил и слушал, как держался, поворачивался“. Это стало поводом для насмешек, но „Хмелев мужественно держался своей новой манеры. Он сохранил ее потом и в жизни, а прежний суетливый, несколько надоедливый, угловатый „вахлачок“ Хмелев исчез совершенно. С этого времени и в роли Турбина начались находки в произнесении фраз с резкой подчеркнутостью первой половины и легкой грацией окончаний — это гармонировало с его манерой держать голову, с лаконизмом движений рук“. „Зерно“ роли режиссер определяет так: „Эта сосредоточенность и полнейшая погруженность в мысли образа дала ту одухотворенность и обаяние, благодаря которым он так западал в душу зрителей“ 3.
На каких мыслях был сосредоточен Алексей Турбин — Хмелев, режиссер не пишет. Между тем есть возможность заглянуть и в эту „святая святых“ актерского искусства. В Музее МХАТ сохранилось несколько листочков с записями Н. Хмелева, которые приоткрывают внутреннее состояние молчаливого и подтянутого, как струна, кадрового русского офицера, отделенного даже от своих домашних какой-то непроницаемой завесой. Вот эти записи, носящие явные следы бесед с Булгаковым и внимательного чтения „Белой гвардии“.
„Постаревший с 25 окт. 1917 г. ‹…›
Верующий
Не Петлюра, так другой, третий. ‹…› Крестоносцы.
В душе Алексея — мрак, склеп, вьюга.
Правой рукой поддерживает ручку браунинга…
Весело оглядел ряды (нарочно)
Кого желаете защищать? — грозно. Дивизион, смирно (рявкнул). Слушайте, дети мои (сорвавшимся голосом) не разрешаю — вежливо!!! и спокойно.
Косит глаза. На Николку бешено загремел (Беги!)
По-больному оскалился неуместной улыбкой.
Глаза к небу. Нижняя челюсть двигалась. 3 раза“.
Эти детали, доходящие до клинической точности, осмысливались в плане крушения всей системы ценностей. „В глазах тревога определенная, когда все ясно, определенно и погано. Расстегнута кобура револьвера. Левая рука — на эфесе шпаги, а правая, без перчатки, на кобуру. Уверенный голос. Лицо красными пятнами, дергает ртом. Уверенность“.
Внутренняя сила верующего человека метила Турбина особым знаком, приковывала к нему общее внимание, поднимала над окружением, обеспокоенным тем, что происходит в текущую минуту. Турбин — Хмелев вглядывался в даль, в метель за окном, пророчил встречу с иной, гораздо более грозной исторической силой и в победу не верил. „В этом наигранном и непрочном покое и горящих мрачным огнем глазах, окруженных траурными тенями, была скрытая тревога, с трудом подавляемое смятение, тоска приговоренного“, — напишет через двадцать лет В. Виленкин.
В подробной анкете об искусстве актера, которую Хмелев заполнял в 1929 году, он укажет еще на несколько моментов, важных для понимания булгаковского героя. „Для „Дней Турбиных“ я очень много читал Достоевского и Чехова, и то и другое, вместе взятое, стало булгаковским“. Рядом с этим признанием, объясняющим связанность турбинской внутренней жизни с более широкой темой русского культурного сознания, идет вторая существенная характеристика: „В Алексее Турбине уже есть это общечеловеческое, в нем специфически характерного ничего нет“ 4.
„Общечеловеческий“ план героя вызывал острое раздражение. Сама возможность психологического или культурно-исторического подхода к полковнику Алексею Турбину казалась еще недопустимой. Офицерские погоны героя производили на пишущих гораздо более сильное впечатление, чем горящие мрачным огнем глаза. Смотрели на погоны, а не в глаза, что было вполне естественно для людей, отделенных шестью годами от взятия Перекопа. Подводя итоги дискуссии, В. Павлов в нашумевшей антимхатовской книжке „Театральные сумерки“ сформулирует главный неприемлемый принцип спектакля: „Дни Турбиных“ в редакции МХАТ… исчерпывающе обнаружили свое старое русско-интеллигентское мировоззрение» 5.
Автору этих строк один из критических собратьев присвоил тогда звание «самого слепого стрелка в СССР». В данном случае стрелок углядел нечто важное, хотя критический «выстрел» совершенно не рассчитал: он не заметил, как внутреннее течение спектакля это «старое русско-интеллигентское мировоззрение» расщепляло и опрокидывало, вскрывало его явную недостаточность в новых обстоятельствах истории. Мечты Лариосика о покое, спроецированные на чеховский текст, либеральное понимание личности («Елена Васильевна… заслуживает счастья, потому что она замечательная женщина») — весь этот сгусток «русско-интеллигентского» сознания вызывал горькую улыбку создателей спектакля. Дело шло о том, как сопрягаются старые понятия и представления с новой реальностью и новым пониманием вещей.