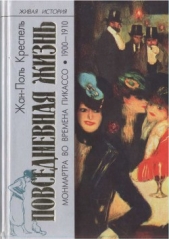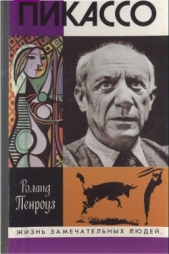Моя жизнь с Пикассо

Моя жизнь с Пикассо читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Сыр служит двойной цели, — объяснил он. — Заполняет пустоту, образованную исчезновением первого черепа, но поскольку он частично совпадает по форме с новым, написанным по образцу старого, это создает пластический ритм между сыром и черепом. Погоди-ка.
Он добавил сыру отверстий. Теперь это был определенно швейцарский сыр.
- Видишь, как отверстия в сыре рифмуются с глазными впадинами?
И отложил кисть. Картина была завершена, и Пабло был очень доволен. Решая проблему равновесия, он создал и тут же решил другую проблему — в такой манере, которая сделала картину гораздо более впечатляющей, чем она была бы, не возникни эта проблема. И все это случилось так быстро, что казалось чудом, произошедшим у меня на глазах.
В последующие месяцы Пабло работал над другими моими портретами. Казалось, ему было очень интересно делать разные формы головы, используя различные символы, но он постоянно возвращался к лунному овалу и растительным формам. Это вызывало у него раздражение.
- Ничего не могу поделать, — жаловался он. — Портрет просто требует быть выполненным таким образом. Иногда это случается. Существуют формы, которые навязываются художнику. Он не выбирает их. Иногда они возникают из атавизма, предшествующего животной жизни. Это очень загадочно и весьма раздражающе.
Особенно раздражала его неотвязная лунная форма головы.
- Я никогда не мыслил понятиями созвездий, — сказал он. — Это не мои излюбленные построения. Они представляют собой нечто из иного царства. Но тут ничего не могу с собой поделать. Художник не настолько свободен, как иногда кажется. То же самое с моими портретами Доры Маар. Я не мог написать ее смеющейся. Для меня она плачущая женщина. В течение многих лет я писал ее деформированной, не из садизма и не ради удовольствия; просто повиновался тому видению, которое навязывалось мне. Это было глубинной реальностью, не поверхностной. Понимаешь, у художника есть свои рамки, не всегда того рода, что представляется.
Лишь два года спустя Пабло смог разрушить рамки в писании моих портретов. Но к тому времени я несомненно стала для него более реальной. Он уже не мог думать обо мне как о ком-то из иного царства, и по моим портретам это было видно. Тогда он делал много литографий, и однажды Мурло приехал в мастерскую с оттиском моего портрета, недавно нарисованного Пабло. В то утро у него на мольберте было незавершенное полотно, тоже мой портрет, с очень ритмичной композицией, в которой пропорции головы доставляли ему немало затруднений. Он делал ее побольше, поменьше, переносил с места на место, закрашивал, однако ничто его не удовлетворяло. Он жаловался, что если голова маленькая, то очень близка к пропорции рук. Если большая, слишком приближается к пропорции ног. Ему пришлось отложить работу над ней, потому что не видел решения. В то утро он взял у Мурло литографию и приложил к холсту так, что их верхние края совместились. Это был поистине невозможный шаг, потому что совершенно выводил плоскость картины из фокуса. Такое введение в композицию постороннего элемента походило на открытие окна в картине, введение иной структуры из иной плоскости. Картина была цветной, а литография черно-белой. Поэтому она создавала такой потрясающий контраст в цвете, в форме, в глубине, что он восхитил Пабло. Он убрал литографию и немедленно написал на ее месте ту же самую композицию — мою голову — что была на литографии. И счел это таким волнующим открытием, что написал еще четыре или пять других картин, воплощающих тот же принцип, но не основанных ни на одной из литографий.
Иногда Пабло поутру начинал полотно, а вечером говорил:
- Ну что ж, пожалуй, картина завершена. То, что я хотел сказать пластически, сказано, но это пришло слишком быстро. Если оставлю ее такой, лишь с видимостью, что я вложил в нее все, что хотел вложить, удовлетворять меня она не будет. Только меня каждый день постоянно прерывают, по сути дела, я лишен возможности доводить свой замысел до полного воплощения. Картина должна создаваться неспешно, а я подчас не могу придать ей последний оттенок мысли, в котором она нуждается. Моя мысль движется быстро, и поскольку рука тут же ей повинуется, поработав день, я могу считать, что сказал почти все, что хотел, пока мне не помешали, и я был вынужден оставить этот замысел. Потом, поскольку на следующий день я вынужден приниматься за другой, то оставляю все, как есть, так как мысли, которые приходят слишком быстро, я быстро оставляю, хотя надо возвращаться к ним и работать дальше. Но у меня редко появляется возможность вернуться. Иногда может потребоваться полгода для работы над замыслом, чтобы воплотить его полностью.
Я спросила, почему он не отгородится от мира и, соответственно, от помех.
- Не могу, — ответил Пабло. — В живописи я создаю то, что исходит из моего внутреннего мира. Но вместе с тем мне нужны встречи и общение с другими людьми. Если сказать Сабартесу, что никого не хочу видеть, то люди будут приходить, и я буду сознавать, что они пришли, а я их не впускаю, и меня будет мучить мысль, что, может, они хотят сообщить мне нечто важное, поэтому я не смогу сосредоточиться на работе. Брак счастливчик. Нелюдимый, задумчивый тип, целиком живущий внутренней жизнью. А мне нужны другие, не только потому, что они что-то приносят. Они еще удовлетворяют мое неуемное любопытство.
Я пишу картины, как другие — автобиографии. Завершенные или нет, они страницы моего дневника и в этом смысле представляют собой ценность. Будущее отберет те из них, которые найдет предпочтительнее. Делать этот отбор не мне. У меня такое впечатление, что время несется мимо все быстрее и быстрее. Я подобен реке, которая течет, неся деревья, росшие слишком близко к ее берегам, дохлых телят, брошенных в нее кем-то, микробов, которые в ней развиваются. Я несу все это с собой и двигаюсь дальше. Меня интересует движение живописи, драматическое движение от одной работы к другой, даже если эти работы не доведены по последнего предела. Могу сказать, что в некоторых картинах работа доведена до полного завершения, потому что в них я смог запечатлеть движение жизни вокруг меня. У меня все меньше и меньше времени, однако мне хочется сказать все больше и больше, и то, что я хочу сказать, все в большей степени связано с тем, что происходит в движении моей мысли. Понимаешь, я достиг состояния, когда движение мысли занимает меня больше, чем сама мысль.
Я спросила, не лучше ли ему писать поменьше картин; в таком случае недостаток времени или мысли не будет его так беспокоить. Он покачал головой.
— Нужно быть живописцем, а не знатоком живописи. Знаток дает живописцу только дурные советы. Поэтому я перестал пытаться судить себя. Конечно, когда художник пишет, он должен использовать наряду с вдохновением и все здравые выводы, какие способен сделать. Однако между пользованием здравой, сравнительно диалектической мыслью и имением целесообразных мыслей огромная разница. Я антирационалист и решил — у меня недостаточно разума, чтобы быть судьей собственным работам. Оставляю это времени и другим людям. Для меня сейчас важно жить, оставлять следы своих шагов и предоставить другим судить, был ли тот или иной шаг в согласии или в противоречии с моей общей эволюцией. Иногда мне кажется ошибкой даже наклоняться, поднимать листок бумаги, на котором я сделал то, что не удовлетворило меня полностью, и дорабатывать его, вместо того чтобы сделать второй рисунок, более соответствующий моей мысли.
Существует еще вопрос фатализма. Я давно уже пришел к согласию с судьбой: то есть, сам стал ею — судьбой в действии. Я совершенно не согласен с мыслью Сезанна о преображении Пуссена в соответствии с природой. Чтобы работать таким образом, мне придется выбирать в природе те ветви дерева, которые годятся для написания таким образом, какой мог придти на ум Пуссену. Но я ничего не выбираю; я беру то, что есть. Мои деревья состоят не из тех построений, которые выбрал я, а из навязанных мне прихотью моего динамизма. Сезанн имел в виду, что глядя на природу, дабы получить ощущение предмета, он искал того, что соответствует заранее сложившемуся эстетическому требованию. А я, когда пищу дерево, не выбираю его; даже не смотрю на него. Этой проблемы для меня не существует. У меня нет заранее сложившихся эстетических догм, на основании которых делается выбор. Нет и предопределенного дерева. Мое дерево — то, которого не существует, и я пользуюсь своим психо-физиологическим динамизмом в движении к его ветвям. В сущности, это совершенно не эстетическая позиция.