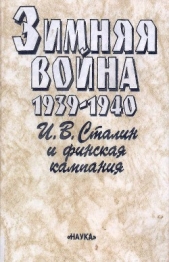Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий

Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий читать книгу онлайн
Перед вами дневники и воспоминания Нины Васильевны Соболевой — представительницы первого поколения советской интеллигенции. Под протокольно-анкетным названием "Гoд рождение тысяча девятьсот двадцать третий" скрывается огромный пласт жизни миллионов обычных советских людей. Полные радостных надежд довоенные школьные годы в Ленинграде, страшный блокадный год, небольшая передышка от голода и обстрелов в эвакуации и — арест как жены "врага народа". Одиночка в тюрьме НКВД, унижения, издевательства, лагеря — всё это автор и ее муж прошли параллельно, долго ничего не зная друг о друге и встретившись только через два десятка лет. Книга прекрасно написана и читается как увлекательный роман, — стойкость, мужество и высокие моральные качества автора которого вызывают искреннее восхищение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
От папы было одно письмо: ему присвоено звание майора и он батальонный комиссар. Пишет, чтоб за него не беспокоились. Алексей, папин брат, тоже на фронте (а Вера, его жена, как раз этой весной с ним разошлась и ушла к какому-то Владимиру. Недавно она приходила к нам, плакала и о чем-то шепталась с мамой).
Наши мальчики уже на фронте. Как-то они там? Галка проводила своего Доньку — он попал в морские части и очень доволен. Из той троицы мушкетеров, которые пели на школьном вечере, когда мы познакомились с Костей, ушли добровольцами Алька Бернштам и Петя Уманский. А красавец Юрочка Хочинский освобожден по близорукости и поступает в Театральный институт. Неудобно говорить об этом даже самой себе, но мне теперь трудно встречаться с Костей. Он провожает меня иногда на завод, когда иду в ночную смену, и мы говорим обо всем, кроме того, о чем будто условились молчать… Отец Кости ушел на фронт, хотя ему уже около пятидесяти лет, а Косте как-то устроил бронь, и тот явно рад, что его «не тронут».
26 августа 1941 г.
Из газет:
В течение 23/VIII наши войска продолжали вести бои с противником на всех фронтах, и особенно упорные бои на Кингисеппском, Смоленском, Новгородском и Одесском.
Письма в «Правду»: «Держитесь стойко, товарищи ленинградцы! — пишут нефтяники Баку, — «В эти дни, когда над городом нависла непосредственная угроза вторжения кровавых гитлеровских банд, мы умножаем свои усилия на каждый литр горючего».
Из Ташкента: «Мы с вами, дорогие друзья!».
В фонд обороны внесен ценный взнос от семьи Лермонтовых — внучатых племянников поэта: старинные золотые серьги с бриллиантами, которые оценены в 20 тысяч рублей.
После упорных боев оставлен Новгород.
Вот такие сводки с фронта. Налеты на город все чаще и чаще. По нескольку раз в день тревоги. В продовольственных магазинах опустели все полки. По карточкам почти ничего не дают. Талончики на крупу и мясо уходят на обеды в столовке завода. Вместо жиров выдали по 500 г сыра.
Многие уже эвакуировались — заметно меньше детей на улицах. Опустели некоторые квартиры. Из нашей уехали Долиновы с ребенком, Таточка Ладынина с матерью и бабушкой (приглашали к себе в Калининскую область, но мы сказали: «Ни за что из Ленинграда не уедем»). Уехала с театром в Среднюю Азию Луиза Ивановна Кенго, а мужа ее почему-то арестовали (говорят, потому, что немец…), и бабушка их осталась теперь одна. В квартире нашей только Сыромятниковы — Вера Степановна с сестрой Валей и восьмилетним Женькой, старушка Кенго да мы четверо.
Получила получку, купила себе материал на зимнее пальто (очень красивый черный искусственный каракуль) и даже отдала шить. Самой стыдно — такое вокруг делается, а я вот о новом пальто думаю. Но ведь с другой стороны, это первая в моей жизни вещь, приобретаемая на свои деньги, и будет это пальто расклешенное, на оранжевой атласной подкладке. Из пальтового материала уже сшила себе черный берет…
Запишу уж заодно и еще о «мелочах жизни», которые, к сожалению, ноют как зубная боль. Очень неприятно, что я умудрилась поссориться с бабушкой. Вообще-то я люблю ее, удивляюсь ее мужеству, с каким она бросила свою квартиру в Лигове (никогда не жалуется), тому, что в свои почти 70 лет не падает духом, подбадривает тех, кто паникует во время тревог. Но у нее появилась какая-то болезненная подозрительность ко всему, что связано с едой. Свой паек выкупает сама, завязывает в тряпочку хлеб, прячет его. А тут дали сыр, и вдруг ей показалось, что от него отрезан ломтик. А была дома утром только я… Так я обиделась на ее подозрение, что ответила грубо. И вот теперь бабушка решила с Николаем питаться отдельно. И мне, и маме это очень неприятно…
9 сентября 1941 г.
Вчера сильнейший налет в 7 вечера — за Обводным, в конце Международного. Загорелись Бадаевские склады, где все запасы продовольствия. Черный дым полз над городом, и огромное зарево — будто второй закат солнца на южной стороне. Даже до нашей улицы доносится запах гари. В 10 вечера еще тревога — снова бомбили. Мы с мамой были на крыше — чуть не сбросило взрывной волной. Пожары во всех районах города. На днях видела, как разбит дом на Невском, 119. Обрушилась передняя стена и все комнаты обнажены… Есть убитые.
За август положение ухудшилось. Сдали Лугу. Оставлена Мга и прекратилось железнодорожное сообщение. В газетах обращение Жданова и Ворошилова к ленинградцам: «Суровая опасность над городом». Снизили нормы хлеба (служащим — 400 г, детям и иждивенцам — 300). Я уволилась с завода, т. к. получила вызов из института. Но занятий пока нет — все на оборонных работах. Я сначала рыла окопы вместе со студентами Авиационного института и помогала в перевозке имущества института в новое помещение, на пр. Майорова (Международный, возле Средней Рогатки, где старое здание, сильно бомбят). А потом попросила разрешения работать на участке, где мамин театральный институт копает противотанковые рвы (это в районе Пискаревки, ездим туда на трамвае, до кольца). Ребята веселые, много шутят (один нашел череп лошади и читал монолог Гамлета). Хорошо поют свои студенческие песни. Но и работают тоже здорово. Стараюсь не отставать, и на руках у меня мозоли не сходят. Среди первокурсников увидела Юрочку Хочинского. Он явно дружит с одной девчонкой — Люсей, и я через нее познакомилась с ним, сказала, что видела их троицу, когда они дали на школьном вечере в прошлом году. Он рассказал, что почти все ребята их класса, ушедшие на фронт, погибли — их отправили в бой без винтовок (надо добыть себе оружие в бою…). Алька Бернштам контужен был так, что потерял на несколько дней речь и зрение. Сейчас его выписали из госпиталя и вроде уже лучше, но дали белый билет.
Поссорилась с Костей и, видимо, теперь навсегда. После последней ссоры мы помирились. Но он зашел вчера, а я спала после смены. Хотел оставить записку, и бабушка сказала, чтоб взял бумагу на письменном столе. А там среди тетрадей он обратил внимание на эту, толстую. Наверное, открыл, прочитал что-то про себя и решил, что имеет право читать все. Взял тетрадь домой, а мне оставил записку, чтоб «не беспокоилась». Возмутилась я страшно — ведь это все равно, как письма чужие прочитать! А сейчас пришла с работы — тетрадь на месте и в ней письмо. Пишет, что после того, что он прочитал, и вообще узнал «некоторые детали» моего истинного отношения к нему, он считает, что нам лучше не встречаться. Не знаю, может он и прав. Но моя обида на него ничуть не меньше, чем его — на меня.
Продолжаю 14 сентября. На оборонные работы ездим с мамой по-прежнему с театральным институтом. Рвы огромные, в четыре метра глубиной. Неужели здесь могут появиться немецкие танки?! Отсюда очень страшно смотреть, как летят на город бомбардировщики, как «ястребки» отгоняют их, как вспыхивают залпы и облачка дыма от зенитных орудий и как один за другим появляются пожары. Смотришь — и бессилен помочь, и не знаешь — цел ли твой дом, твои близкие… Хорошо, что хоть мы с мамой тут вместе.
По окончании смены (чередуемся то в день, то в ночь) устаем так, что в трамвае спим даже стоя. Дорога длинная — больше полутора часов, а если застанет тревога, приходится выходить и прятаться в подъездах домов или в щелях. Тревоги теперь бесконечны и по нескольку раз в сутки. Больше всего мечтаю выспаться. И об еде мысли лезут в голову (чтоб досыта). Еще раз снизили нормы хлеба — служащим 300 г, детям 300, иждивенцам — 250. Какие длинные очереди в булочных и как медленно они двигаются! Ведь каждый паек отвешивают с аптекарской точностью, а возле прилавка все молча следят за стрелкой весов… Мы с мамой берем с собой на работу мешок и, прежде чем ехать с окопов домой, ходим по полю и ищем остатки капустных листьев или невыкопанную картошку. Но так делают многие, и ходить приходится все дальше и дальше. Из этих темно-зеленых, с гнилью, листьев варим горькие щи (раньше такая «хряпа» шла только на корм скоту). Жалеем, что совсем не запасли крупы или муки. Осталась в буфете случайно банка крахмала да пучок сухих листьев петрушки — вот и заправляем теперь щи ложечкой крахмала и щепоткой этой пахучей травки. Выдали по 200 г постного масла — мама добавляет в тарелку и немножко масла. Получается что-то вроде клееобразной похлебки. Если хорошо посолить и горячая, то даже насыщает. Вот если б хлеба побольше… Но хлеб сушим сухариками и сосем (как конфеты), когда пьем чай утром и вечером — так на дольше хватает. Бабушка с Николаем питаются теперь снова вместе с нами, но хлеб выкупают по карточкам отдельно. Как-то очень стыдно, что ее паек на 50 г меньше, чем у нас с мамой. Но, правда, у Николая рабочая карточка и вместе получается одинаково с нами.
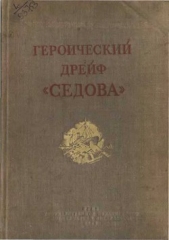
![Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году]](/uploads/posts/books/174245/174245.jpg)