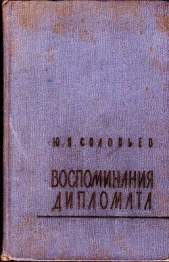Мысли и воспоминания. Том 1

Мысли и воспоминания. Том 1 читать книгу онлайн
«Мысли и воспоминания» Бисмарка — это не столько воспоминания, сколько мысли, изложением которых закончил свою продолжительную политическую жизнь один из крупнейших государственных деятелей Европы второй половины XIX века- Политические деятели дворянства и буржуазии, когда они составляют свои мемуары, преследуют обычно определенную, более или менее ясно выраженную цель. Одни пытаются заднимчислом свести счеты со своими политическими противниками; другие стремятся приоткрыть завесу над некоторыми дотоле неизвестными событиями, в которых они участвовали или к которым имели то или иное отношение; третьи хотят напомнить современникам и потомству о своих подлинных илимнимых подвигах и заслугах. Но все они прежде всего стремятся оправдать свою собственную политическую деятельность, показав в убедительном или привлекательном свете ее подлинные или позднее придуманные мотивы. С этой целью мемуаристы обычно замалчивают одни факты, излишне подчеркивают другие, пронизывают все определенной тенденцией и вдобавок пытаются всему этому придать черты достоверности и убедительности.Таким образом, мемуары — это прежде всего апологетический документ, где автор имеет возможность выступить в качестве своего собственного адвоката и судьи одновременно. Дело историка дать мемуарам критическую оценку. «Мысли и воспоминания» Бисмарка — это не только апологетический документ. Это прежде всего политическое завещание основателя Германской империи, написанное, как гласитпосвящение, «сынам и внукам для понимания прошлого и в поучение на будущее».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Король побуждал также и господина фон-Мантейфеля к попыткам привлечь прусских крайних правых на сторону правительственной политики и подготовить в этом смысле соглашение между нами и партией Гагерна27. Он сделал так, что пригласил только меня и Гагерна к обеду и, не сказав даже нескольких вступительных слов, оставил нас вдвоем, когда мы еще сидели за бутылкой вина. Гагерн повторил мне лишь менее точно и вразумительно то, что было нам уже известно как программа его партии и, в несколько сокращенном виде, — как правительственное предложение. Он говорил, не глядя на меня, уставясь в небо. В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной, он, окончив свою длинную и напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами: Roma locuta est28 [Рим высказался]. Когда Мантейфель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча: я — потому, что ожидал возражений Гагерна; он — потому, что, помня свое положение во Франкфурте, считал ниже своего достоинства вести переговоры с прусским юнкером иначе, как в безапелляционном духе. Он был более склонен к роли парламентского оратора и президента, нежели серьезного политического деятеля, и воображал себя Jupiter to nans [Юпитером-громовержцем]. После того как Гагерн удалился, Мантейфель спросил меня, что он говорил. «Он произнес передо мной речь, как будто я — народное собрание», — ответил я.
Примечательно, что в обеих семьях — Гагернов и Ауэрс-вальдов, представлявших тогда в Германии и Пруссии национальный либерализм, было тогда по три брата и среди них по одному генералу; оба эти генерала были более практичными политиками, чем их братья, и оба были убиты в результате революционных движений, развитию которых оба они из добрых патриотических побуждений содействовали в сфере своей деятельности. Генерал фон-Ауэрсвальд, убитый 18 сентября 1848 г. под Франкфуртом, как говорили, потому, что его приняли за Радовица, похвалялся во время первого Соединенного ландтага тем, что, будучи полковником кавалерийского полка, сделал верхом сотни миль, чтобы оказать во время выборов содействие оппозиции среди крестьян.
В ноябре 1850 г. я был одновременно вызван как офицер ланд-
29
вера в полк и как депутат — на предстоящую сессию палаты . Проезжая через Берлин в штаб полка30, я явился к военному министру фон-Штокгаузену, с которым был лично в хороших отношениях и который был мне признателен за кое-какие личные услуги. После того как я преодолел противодействие старика-швейцара и был допущен к министру, я дал выход своему воинственному настроению, будучи несколько возбужден и призывом в полк и тоном австрийцев. Министр, старый, энергичный солдат, в моральной и физической отваге которого я был уверен, сказал мне в основном следующее:
«В настоящий момент мы должны по возможности избегать разрыва. У нас нет достаточных сил, чтобы сдержать натиск австрийцев, если они внезапно на нас нападут, даже без помощи саксонцев. Нам придется отдать им Берлин и объявить мобилизацию в двух центрах вне столицы, скажем, в Данциге и в Вестфалии; к Берлину мы могли бы стянуть лишь через две недели около 70 тысяч человек, но и этого было бы недостаточно против тех боевых сил, которые Австрия уже сейчас имеет наготове против нас». Если мы хотим ударить, — продолжал он, — то нам прежде всего необходимо выиграть время, а поэтому надобно желать, чтобы прения и речи, предстоящие в палате депутатов, не ускорили разрыва, как это можно предвидеть по тону, господствующему в прессе. Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросанность линейных частей, которые выступили и были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов своего комплектования и цейхгаузов частью в глубине страны, большею же частью в юго-западной Германии, т. е. в местах, где трудно быстро провести мобилизацию.
Баденские войска повели тогда в Пруссию по трудно проходимым дорогам через брауншвейгский Везерский район — доказательство того, как боялись нарушить границы владений союзных князей, в то время как остальные атрибуты их суверенитета с легкостью игнорировались или совсем упразднялись в проектах конституций империи и Союза трех королей. В проектах доходили почти до медиатизации31, но не осмеливались претендовать на то, чтобы расквартировать войска, вне предусмотренных договорами пределов этапных дорог. Эта трусливая традиция была нарушена лишь в Швар— тау, когда разразилась война с Данией 1864 г. и опущенный ольденбургский шлагбаум был поднят прусскими войсками.
Я не мог подвергнуть критике соображения такого компетентного и проникнутого чувством чести генерала,как Шток— гаузен, я и теперь на это не отважусь. Вина за нашу скованность в военном отношении, которую он мне обрисовал, лежала не на нем,—она крылась в той бесплановости, в той смеси легкомыслия и скряжничества, с какой в мартовские дни и после них велась наша политика, как военная, так и дипломатическая. В военной же области она была такого рода, что проводимые мероприятия давали основание предположить, что в высших сферах, в Берлине, вообще не принимали в расчет разрешение назревших вопросов путем войны или хотя бы путем военной подготовки. Слишком много занимались общественным мнением, речами, газетами и возней с конституцией, чтобы наметить твердые планы и достичь практических целей в области внешней или хотя бы даже только внепрусской, германской политики. Штокгаузен не был в состоянии исправить упущения и уничтожить бесплановость нашей политики путем быстрых успехов в военном отношении и оказался поэтому в положении, которое считал недопустимым даже сам политический руководитель министерства — граф Бранденбург. Последний изнемог под бременем разочарований, которые пришлось пережить его высокому патриотическому чувству чести в последние дни его жизни. Было бы несправедливо обвинять Штокгаузена в малодушии, и я имею основания полагать, что и король Вильгельм I ко времени, когда я стал его министром, разделял мой взгляд на военное положение в ноябре 1850 г. Как бы то ни было, я не имел тогда никаких оснований для критики, которую я мог бы осуществить в военной области как консервативный депутат по адресу министра и как лейтенант ландвера — по адресу генерала.
Штокгаузен взялся уведомить мой полк, расположенный в Лаузице, о том, что он приказал лейтенанту фон-Бисмарку остаться в Берлине. Я отправился прежде всего к моему коллеге по ландтагу, советнику юстиции Гепперту, который возглавлял тогда если не мою фракцию, то все же многочисленную группу, которую можно было бы назвать правым центром и которая была склонна поддерживать правительство; она считала лишь необходимым энергично отстаивать национальные задачи Пруссии не только принципиально, но также путем немедленного вмешательства военной силы. Я натолкнулся прежде всего на парламентские взгляды Гепперта, которые не совпадали с программой военного министра; поэтому мне пришлось постараться разубедить его во мнении, которое до разговора с Штокгаузеном я сам в основном разделял и которое можно определить, как естественное следствие уязвленного национального или военно-прусского чувства чести. Я вспоминаю, что наши разговоры были продолжительны и часты. Влияние их на фракцию правых видно из дебатов по поводу адреса. Я сам высказал 3 декабря мои тогдашние убеждения в речи, из которой привожу следующие выдержки:
«Прусский народ, как всем нам известно, единодушно поднялся по призыву своего короля, поднялся, полный доверия и послушания, поднялся, чтобы по примеру отцов сражаться в боях прусских королей, поднялся, прежде чем он узнал, — заметьте это себе, господа, — прежде чем он узнал, что именно должно быть завоевано в этих боях; этого, вероятно, не знал никто из вступивших в ряды ландвера.