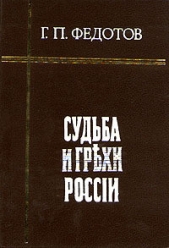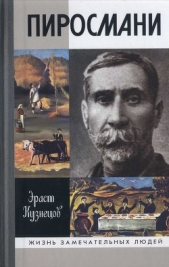Павел Федотов

Павел Федотов читать книгу онлайн
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наверно, он сам что-то понял (подсказать было некому), а не понял — так почувствовал инстинктом подлинного художника. Вот почему год спустя, когда снова потянуло на что-то выходящее за пределы домашности, обращенное к неведомым зрителям, он уже и думать позабыл не только о «Хроносах» с «Манфредами», но и о сценах деревенской жизни и взялся за то, что ближе и понятнее.
Таких акварельных картин он исполнил две, причем каждая из них была по-своему примечательна.
Первая — «Передняя частного пристава накануне большого праздника» — принадлежала к роду обличительному и была сочинена не без изобретательности в замысле и деталях. В обширной передней столпились многочисленные посетители с чистосердечными даяниями — кто с кулем, кто с кадушкой, кто с сахарной головой, кто с целой тушей, кто еще с чем, вплоть до пачки исписанных листков, принесенных литератором.
Вторая — «Уличная сцена в Москве во время дождя» — к роду созерцательному. Здесь, в противоположность первой, царят безыскусность и непредвзятость. Какая-то, должно быть, совершенно конкретная, рисованная с натуры, московская улица (если не полениться, ее можно было бы отыскать, распознав виднеющуюся вдали церковь), легкий дождик и народ, делающий именно то, что делают во время легкого дождика: кто бережет свое платье под навесом, кто укрывается зонтом, кто плотнее закутывается в платок или надежнее надвигает капюшон на голову, а кто, пренебрегая непогодой, спокойно идет себе своим путем. Какого бы то ни было единого сюжета, тем более подчиненного выражению генеральной идеи, овладевшей автором, здесь нет. Всяк сам по себе, с другими не смешивается и не имеет до них дела, как это и бывает на улице.
В обеих акварелях, и в каждой по-своему, приоткрывался тот родоначальник русского бытового жанра, которым Федотов стал гораздо позднее: изобличение общественных пороков в одной и наслаждение красотой окружающего мира, как бы он ни был зауряден, — в другой. От «Передней частного пристава…» до нравоучительных сепий, за которые он возьмется почти через семь лет, казалось бы, рукой подать — только шагни. Но он не шагнул: он еще не дорос до самого себя, до своего дара, ни как художник, ни как человек. Эти семь лет еще надо было прожить.
Вряд ли он вполне осознал смысл сделанного. Верно, с горечью оглядел готовую «Переднюю частного пристава…» — компоновка нарочита, рисунок неловок, цвет грязен. А «Уличная сцена…», исполненная не в пример совершеннее буквально по всем статьям, так и осталась неоконченной — на нее, надо думать, не хватило времени.
Было главное дело — картина «Встреча в лагере лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года» и множество надежд, с ней связанных. И она вряд ли была окончена в Москве. После возвращения Федотова из отпуска (точно в срок, 21 декабря 1837 года) ему пришлось еще поработать. Не исключено, что возникала необходимость в переделках, вызванных капризами текущей гвардейской жизни, что нужно было убрать офицера, вдруг заслужившего немилость Михаила Павловича или просто переведенного в другой полк, — и Федотов тщательно смывал с бумаги нежную акварель, чтобы на том же месте запечатлеть иное, более достойное лицо, не забыв внести и нужную перемену в знаки отличия… Однако все это уже из области домысла.
Плод полугодовалого труда, помещенный под стекло и заключенный в приличествующую случаю раму, командир полка Офросимов представил великому князю. Михаил Павлович внимательнейшим образом рассмотрел картину и остался доволен, не сыскав ни малейшей погрешности против устава: видно было, что рисовал офицер, образцовый фронтовик, а не штафирка. Наградой явилось высочайшее изъявление удовлетворенности, а также бриллиантовый перстень, переданный Михаилом Павловичем через командира полка. «Этим-то перстнем окончательно припечаталось в душе его художественное самолюбие», — шутливо прокомментировал потом сам Федотов.
Совершилось в самом деле нечто важное: картина, еще подсказанная инерцией любительского художества и во многом носившая отпечаток домашности, сама собою стала произведением если не профессиональным, то хотя бы полупрофессиональным и сразу придала милым рисовальным забавам молодого офицера реальный практический смысл. И если уж попытаться расставить вехи на пути Федотова, то «Встреча Михаила Павловича…», безусловно, окажется одной из важных.
Следует признаться, что среди писавших о Федотове долгое время было принято пренебрегать этой работой, как бы немного стесняясь ее. Очень уж она не вяжется со зрелым творчеством художника, с одной стороны, представляясь слишком неумелой, а с другой — слишком верноподданнической или — что не лучше — неискренней. Но дело обстоит не совсем так.
В картине действительно господствуют статичность и перечисленность, фигуры мало связаны друг с другом, все кажется застылым и даже неестественным. Однако Федотов вовсе и не собирался буквально изображать здесь «сюжет славный» — то, что в самом деле происходило на плацу в лагере Финляндского полка 8 июля 1837 года, — воспроизводить давку, беготню, лезущих друг на друга солдат, нестройную живописность образующихся при том групп и прочее, воспроизводить хотя бы с той непосредственностью, которую он уже успел обнаружить в «Уличной сцене в Москве во время дождя». И странно было бы ставить это ему в вину, считая, что он с делом «не справился». Нет, как раз справился и сделал именно то, что намеревался и чего от него ожидали, — не изображение самого события как такового, но увековечивание памяти о нем, как было принято всегда и сохраняется до сих пор — в приличествующей случаю парадной форме большого группового портрета.
Точно ли она неумела? Федотов заметно преуспел в мастерстве: картина красиво сгруппирована, ее симметричная правильность не скучна и не однообразна — и это при том, что каждый тут вынужден стоять (как ему и положено) совершенным столбом; темные сюртуки офицеров очень удачно и продуманно перебиваются светло-серыми шинелями рядовых; картина отлично выделана технически, сродни миниатюрной живописи, она гармонична по цвету, и акварель лежит легко и прозрачно на плоскости бумаги; о безупречном сходстве, с которым написаны все изображенные, говорить не приходится.
Картина в самом деле наивна, но ее наивность вполне соответствует откровенной условности самого ее замысла; в ней много обаяния, которого не всегда достает и кое-каким из более поздних работ Федотова — хотя бы серии нравоучительных сепий. Неизъяснимая прелесть простодушия по сей день заставляет любоваться ею, и наиболее тонкие и чуткие исследователи считают нужным отдать ей должное: «В этой оцепенелости есть своя выразительность, напоминающая работы художников-примитивистов. Три десятка взлетевших в воздух шапок, запечатленные в этой акварели, похожи на чудесно поднимающиеся аэростаты из пейзажа французского художника “таможенника” Анри Руссо…» «Трогательная наивность Федотова, та радость, которая возникает в душе художника от осознания способности передавать всё точно, с максимальным сходством, ничего не забывая и не пропуская…» 13 Каждый пишет по-своему, но в общем об одном.
Что же до официозности картины — то вправе ли мы бросить камень в нашего героя? Картина писалась совершенно искренне. Жизнь научила Федотова отмалчиваться, скрытничать, примиряться и приспосабливаться — да, но криводушничать не научила ни в разговорах, ни в картинах, и он всегда чистосердечно отдавался тому, что влекло, что казалось важным. В неодолимости прямодушия, в сущности, и заключался источник трагедии, в конце концов его постигшей. И сейчас, на исходе 1837 года, двадцати двух лет, он, хоть и поднабрался житейского опыта, стал кое о чем подумывать, кое о чем догадываться и пообтер слегка свою юношескую восторженность, но все еще недалеко ушел от того молоденького офицера, который два с половиной года назад заносил в дневник нехитрые впечатления минувшего дня. Красота военного мундира по-прежнему его радовала, а стройность армейского порядка по-прежнему была для него знаком причастности к гармонии бытия.