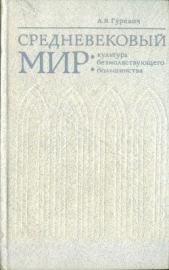Арон Гуревич История историка

Арон Гуревич История историка читать книгу онлайн
В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.
В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Почти отсутствовали и личные контакты с зарубежными коллегами. Иностранные ученые появлялись у нас очень редко, а если и появлялись, то свободное общение с ними было затруднено: над нами высилась тень представителя компетентных органов, без которого это общение было невозможно.
Мы находились под неким увеличительным стеклом, но как‑то приспосабливались, и когда хотелось встретиться с иностранными коллегами, отыскивали свои способы. Если я приглашал зарубежного историка к себе в гости, — а делал я это довольно часто — то, чтобы не загружать лишней информацией людей, которым надлежало подслушивать, уносил телефон в другую комнату, или же в вертушку, где набираются цифры, вставлял карандаш, так, чтобы аппарат отключился. Приходилось осторожничать и хитрить, что, естественно, несколько отравляло существование, но все же контакты, носившие неподведомственный, неподнадзорный характер, происходили. Они были не очень интенсивными, и в целом, если не говорить об отдельных историках, научного общения в нормальном понимании этого слова не происходило.
На международные научные конференции выезжали только немногие представители нашего гуманитарного знания, отобранные по особым критериям, которые, как можно легко догадаться, не всегда совпадали с критериями научной значимости. Да и сами посланцы советской исторической науки чувствовали себя на Западе далеко не всегда уютно. Существовал постоянный надзор, и не вызывает никакого сомнения, что в каждой делегации советских ученых любой специальности, которая куда‑то выезжала, конечно, присутствовали не только «старший», который нес личную ответственность за идеологически выдержанное и бдительное поведение каждого члена делегации, но также и «глаза и уши государя», приводившиеся в действие, как только наш ученый вступал в приватные разговоры с иностранцами.
М. А. Барг рассказывал, как он впервые в жизни получил разрешение поехать на международную конференцию по экономической истории (или даже его обязали принять в ней участие), кажется, в Женеве. Он приехал, к нему подошел один из членов советской делегации, совершенно незнакомый ему молодой человек, и откровенно сказал: «Михаил Абрамович, я ваш куратор. Скажите, пожалуйста, когда будет ваш доклад?» И этот куратор побывал на заседании, а потом в перерыве спросил: «М. А., а, собственно, о чем вы рассказывали?» Он только надзирал и, по — видимому, убедился в том, что излишних рукопожатий или объятий у Барга с иностранными коллегами не наблюдается. Ну, а о существе дела позаботиться он не мог по вполне понятным «техническим» причинам. Несколько анекдотический случай, конечно, но наша жизнь была соткана из анекдотов, далеко не всегда более приличных, нежели этот.
В каждой комнате, где работали несколько сотрудников, в каждой микрогруппе кто‑то имел тайную обязанность докладывать в «первый отдел» о настроениях и разговорах членов коллектива. Мы знали, что в каждом подразделении есть стукач, но кто именно — это не всегда было ясно, и часто мы не сдерживались и говорили вещи крамольные или псевдокрамольные.
Полагаю, что было бы упрощением воображать, будто решения о заграничных научных командировках во всех случаях принимались органами госбезопасности и ведущими Parteigenossen. Однажды пришло приглашение на международную конференцию по исландским сагам, которая должна была состояться в Эдинбурге. Приглашали М. И. Стеблин — Каменского и меня, но хотя Михаил Иванович, в отличие от меня, был «выездным», мы оба не поехали. Вместо нас в Эдинбург отправились директор Института языкознания Ярцева, другая дама — секретарь партбюро института — и Десницкая, директор ленинградского отделения института. По возвращении одна из этих «трех граций» пожаловалась М. И.: «Устроители конференции были на редкость нелюбезны». Объяснение: «Незваный гость хуже татарина…»
Запрет и надзор были рутиной нашей жизни, в том числе и академической.
Вот воспоминание, относящееся, правда, к более позднему времени — 70–м или даже началу 80–х годов. Ученый секретарь по международным делам Института всеобщей истории, Елена Ильинична Агаянц, весьма колоритная дама почтенного возраста, любила вести со мной приватные разговоры. Например, она возмущалась: «Арон Яковлевич, что же это такое? В паспорте пишется национальность. Мы же интернационалисты! Вы — такой ученый, и вас не пускают за границу!» Я помалкивал, пребывая в затруднении. Что это, крик души, или, может быть, предполагалось, что мои ответы будут записаны где‑то там, в ящике стола? Нельзя сказать, что я боялся, но больше слушал и отмалчивался. Как‑то раз она говорит: «Вы знаете, я старая разведчица. Я вам сейчас покажу кое‑что». Вынимает фотографию военного времени. Стоит группа офицеров — югославских и советских. В центре круга отплясывает парочка — маршал Тито и эта самая Елена Ильинична, тоже в военной форме. Она продолжает: «И знаете, что они, — это она о начальстве, — что они делают? Они хотят, чтобы я установила наблюдение за нашими сотрудниками! Но это же не по моему ведомству! У меня здесь международные отношения, а есть ведь отдел кадров, который должен следить за всем внутренним распорядком».
Но это все — поверхностный слой нашей академической повседневности. Главное же то, что мысль историков находилась в состоянии застоя. Когда современный читатель, не только молодого, но и старшего поколения, обращается (если обращается) к изучению работ советских историков, опубликованных в 30–50–е и последующие годы, нередко его берет оторопь: насколько далеко мы ушли от того уровня, склада мысли, который был воплощен в этих работах, насколько они пронизаны догматизмом и как узок был кругозор историков, даже весьма квалифицированных специалистов, знатоков своего дела!
Здесь я хочу обратить внимание на два весьма разных, но связанных между собой обстоятельства, в значительной степени определявших состояние советской исторической науки.
Первое. В условиях идеологического контроля наиболее образованные и талантливые историки предпочитали уйти, так сказать, во внутреннюю эмиграцию. Характерна была узкая специализация, привязанность к привычной теме, может быть, и существенной, занятия источниковедением, разработка сугубо конкретных сюжетов без каких‑либо широких обобщений, потому что там, где начинаются обобщения, вы попадаете в сферу господства идеологии.
Второе. Все это было теснейшим образом связано с тем, что в нашей стране существовала цензура. Эта цензура проверяла всю печатную продукцию — от газет и научных изданий до художественной литературы и этикеток на бутылках и коробках. Но среди парадоксов советской действительности имел место и такой: цензура была повсеместной, но ее как бы не было. Автор, как правило, не мог (может быть, и были редкие исключения) встретиться с цензором. Все делали вид, будто никакой цензуры не существует. А цензурное учреждение существовало, и называлось оно Главлит — Главное управление литературы, абсолютно стерильное название. Цензор сидит в любом издательстве в закрытой комнате и внимательно штудирует все, что должно выйти в свет.
Что же он делает, если находит что‑либо припахивающее, хотя бы весьма отдаленно, несоответствием официальной идеологии, что нельзя «пропустить» (я не говорю уже о военных и государственных секретах), просто какие‑то выражения, формулировки, мысли, которые, с точки зрения цензора, не являются «нашими», ортодоксальными? Он вызывает к себе издательского редактора, показывает ему, что тот пропустил то‑то и то‑то. Редактор вызывает автора и от своего имени деликатно поучает его, что нужно сделать, чтобы все было как надо. Сплошь и рядом эта цензурная правка являлась мелкой, и можно было пойти на компромисс, сказать что‑то не так прямо, намеком, но так, что все будет понятно.
Мысль о том, что намеки поймут, была очень распространена. Вот, например, совершенно анекдотический случай. Известный логик Ю. Гастев (он потом эмигрировал и скончался за границей) в период брежневской реакции издал монографию, в предисловии к которой среди благодарностей тем коллегам, кто помог ему в работе над книгой, выразил особую признательность Чейну и Стоку. Книга вышла, и кто‑то задал вопрос: а, собственно, кто такие эти господа Чейн и Стокс и какую помощь они Гастеву оказали? А эти имена были взяты из медицинского термина «дыхание Чейн — Стокса», означавшего, что идет агония, умирание; его употребили в бюллетене о состоянии здоровья Сталина, который публиковался в последние дни его жизни. Так что Гастев поблагодарил судьбу в лице Чейна и Стокса за то, что дыхание отлетело от уст тирана. К таким эвфемизмам мы прибегали неоднократно.