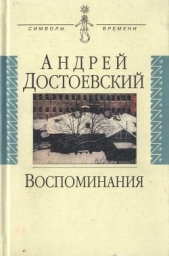Школьные воспоминания

Школьные воспоминания читать книгу онлайн
Владимир Людвигович Дедлов (настоящая фамилия Кигн) (1856–1908) — публицист, прозаик, критик. Образование Дедлов получил в Москве, сначала в немецкой «петершуле», затем в русской классической гимназии. В 15 лет он увлекся идеями крестьянского социализма и даже организовал пропагандистский кружок. Это увлечение было недолгим и неглубоким, однако Дедлов был исключен из старшего класса гимназии, и ему пришлось завершать курс в ряде частных учебных заведений. «Мученичество» своих школьных лет, с муштрой и схоластикой, он запечатлел в автобиографических очерках «Школьные воспоминания». Издание 1902 года, текст приведен к современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нашей гимназии мы не посещали и не интересовались ею. Предстоящий экзамен нас еще не заботил: ведь он должен быть только через два года. Один из наших товарищей, малый практический, не смущаемый нм жаждой жизни, ни политикой, ни эстетикой, ни тому подобными глупостями, однажды, придя в гимназию вместе с нами, сел не на старое место, а в последний класс. Объяснил он это тем, что ему любопытно послушать, как учат там. Ему понравилось, как там учат, и он там остался совсем. Мы нашли, это очень легкомысленным. Он знал еще меньше нас; а затем он променял, наше, мое и Г–ва, общество — а о себе мы были очень лестного мнения — на учеников последнего класса, которых мы не одобряли. Когда мы высказали это нашему приятелю, он ответил, что мы вечно будем милы его сердцу, что новые товарищи его совершенно не интересуют, а в классе он «вроде вольнослушателя». Потом мало-помалу он к нам охладел и разошелся с нами.
Последний класс гимназии представлял любопытное зрелище. Он был очень многолюден. Большинство учеников были в годах, лет далеко за двадцать, с бородами. Вид имели все солидный, вид людей, живущих уже весьма сознательно. Было несколько вольнослушателей высших учебных заведений, которым был нужен гимназический аттестат для зачисления в настоящие студенты. Эти ходили в форменных фуражках своих училищ, угрюмо сидели на уроках, презрительно смотрели на учителей и брезгливо на учеников. Многие принадлежали к национальностям, отличающимся практическим складом ума, к евреям, полякам, армянам, даже был один японец. Были евреи-радикалы, в смазных сапогах, карбонарских шляпах и пледах, смотревшие на мир с ненавистью и презрением, и евреи-франты, с усиками в виде стрелок, кольцами на руках и обольстительно светскими манерами. Поляки, как и везде на чужой стороне, держались своей мнительной кучкой, не были ни карбонарами, ни, по недостатку средств, франтами, шептались между собою по-польски и обдумывали свои польские дела. Армяне соединяли жизнерадостность с практичностью и франтовство с радикальными убеждениями. Русаки придерживались больше тайного кабака сторожа Мишки, чем уроков, но были тоже малыми не промах и отличались физиономиями, кто вызывающими, кто чересчур ласковыми, но одинаково смышлеными. Почти все — я и молодые люди поступали прямо в последний класс. Будь мы с Г. порасторопней и непрактичней, мы заметили бы, что тут кроется какая-то загадка.
И вдруг загадка и обнаружилась, и была разгадана одновременно.
Учебный год прошёл, нас проэкзаменовали, мы оказались плохи, но нас всё-таки перевели. Минули каникулы, мы с Г. вернулись в Петербург и вместе шли в гимназию. Наступал решительный год, в будущем мае нам предстоял экзамен зрелости. Мы давали друг другу обещания бросить политику и эстетику, не посещать публичной библиотеки, не заглядываться на хорошеньких студенток, не развлекаться ни литературой, ни жаждой жизни, а учиться изо всей мочи. Становилось страшно: мы знали очень мало.
Вот и гимназия, но вывески на ней почему-то нет. Мы звоним, — отпирает какой-то столяр, а не сторож Мишка. В комнатах пусто, — ни парт, ни досок. Полы взломаны, переклеивают обои, мастеровые стучат и поют песни. Где же гимназия? — Гимназии нет, гимназия закрыта по распоряжению министерства. — За что? — За торговлю свидетельствами об окончании в ней курса. Нам всё стало ясно: и моя загадочная беседа с директором при поступлении, и многолюдность последнего класса, и странный состав его учеников, и необъяснимый переход нашего товарища в «вольнослушатели» последнего класса. Этот товарищ был мудрый человек. Когда мы только еще добились до университета, он уже был адвокатом.
6
Как ни были мы с Г. легкомысленны, однако поняли, что положение наше становится серьезным. Закрытие гимназии составило большую потерю. Тогда частные гимназии имели некоторые права. Их свидетельства, как я уже сказал, открывали доступ в специальные заведения. На зрелость их ученики экзаменовались хотя и казенными учителями, но в присутствии своих преподавателей; последние даже имели голос при оценке ответов. Державшие при казенных гимназиях должны были получить не менее четырех с половиною, причем ни одной тройки, — для частных гимназистов достаточно было трех. В качестве постороннего можно было экзаменоваться не раньше товарищей по оставленному заведению, — к воспитанникам частных гимназий это не относилось. По мере того, как мы всё это узнавали, разузнавали и соображали, тревога наша росла. Как быть? Как поступить? Мы чувствовали себя так, точно сбились с пути и заблудились. Выберемся ли на дорогу? Или нам так и пропадать? Настоящей жажды знания мы не имели, ни тогда, ни после, но мы раздразнили себя чтением, разговорами, публичной библиотекой, и думали, что нам ужасно как хочется науки. О карьере, которую открывает университет, мы не помышляли, тоже ни в то время, ни впоследствии, но страдало наше самолюбие, и мы завидовали. Сидеть в публичной библиотеке в качестве студента или просто «готовящегося» — неизмеримая разница. Идешь по улице, на ногах у тебя высокие сапоги, на плечах плед, — как есть студент. А на самом деле ты обманщик: не студент, а готовящийся. Знакомые студенты в своих рассказах изображают университет какою-то свободною страной, где шумят сходки, обсуждаются вопросы первостепенной важности, где студенты экзаменуются сидя, где неизвестно еще, кто важней: ректор, тайный советник с двумя звездами, или первокурсник естественного факультета, Овечкин; где еще на днях этот Овечкин, замечательная личность и выдающийся оратор, ответил ректору, тайному советнику с двумя звездами, просившему сходку, обсуждавшую преимущества анархии перед монархией, разойтись — «Знайте, ректор, что это собрание уступит только силе штыков»! — «И что же ректор»? спрашиваем мы рассказчика. — «Ректор? Ректор знает историю, а стало быть, ему известно и то, что штыки бессильны против великой идеи». Г–в десятки страниц своих ремарок наполнял рассуждениями об ужасном гнете классицизма, о свободных американских университетах, о необходимости нового 1789 года. Для разнообразия он обдумывал планы и способы самоубийства. Однажды мысль о самоубийстве созрела. Ложась спать — я тогда ночевал у него — он вручил мне свой револьверишко и попросил, когда заснет, застрелить его. Чтобы избавить меня от ответственности, он написал записку, что застрелился сам, но записки мне не отдал, а положил себе под подушку. Я с самым серьезным видом соглашаюсь на последнюю просьбу друга. Легли, потушили свечи. Проходит полчаса, час; мы оба молчим, но не спим. Я подымаюсь, крадучись иду к Г–ву и вдруг слышу его голос, испуганный, но вместе с тем и сконфуженный:
— Ты, слушай! Как честный человек на всякий случай предупреждаю: я мою записку съел.
Я начинаю хохотать. За мной хохочет и Г–в. Проходит еще полчаса, я начинаю дремать, — и опять голос Г–ва:
— Эх, даже и умереть не умею! — с горечью и презрением восклицает мой друг, повертывается на другой бок и сладко засыпает.
Тысячи-тысяч думушек вертелись у нас в голове. Не поступить ли в самом деле в юнкера? Говорят, есть какое-то военно-аудиторское училище; куда принимают чуть не кантонистов, но которое дает совершенно университетские права. Где-то, — не то в Херсоне, не то в Керчи, есть боцманская или лоцманская школа, тоже с какими-то правами. Рассказывают, будто существуют особенные казачьи и кавказские гимназии, где гимназисты ходят с красными лампасами и в папахах; там экзамены будто бы совсем легкие, но зато надо уметь джигитовать. Не начать ли на всякий случай изучать джигитовку? Ходят слухи про какую-то захолустную гимназию, где зрелость можно купить; но цена дорога, полторы тысячи. В нашей закрытой гимназии свидетельство стоило, говорят, втрое дешевле. Дураки мы, дураки, что не купили! «Это нечестно!» — «Расперенаплевать мне на честность! — гремит мой друг. — Разве при буржуазном строе может быть честность? Надо быть мошенником, мерзавцем. С меня довольно этой честности! С этой минуты я — буржуа, сытый буржуа; герои «Брюха Парижа» — мой идеал. Плутовство, плутовство-с, вот мой девиз отныне… Я плут. Уж мне эти либералишки, радикалишки, социалистишки! Попадись они мне! На свете борьба за существование, и ничего больше. Да здравствует Дарвин, я становлюсь пройдохой!»