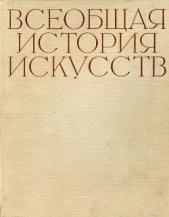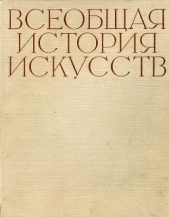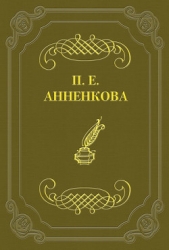Укрощение искусств
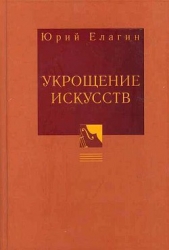
Укрощение искусств читать книгу онлайн
Воспоминания Ю.Б. Елагина (1910-1987), талантливого скрипача и тонкого знатока музыки, волею судеб после Второй мировой войны оказавшегося в Америке, охватывает страшное для российской культуры десятилетие – 1930-1940 гг. Книга восстанавливает многие неизвестные и забытые факты, касающиеся политики советской власти в области искусства и судеб людей творческих профессий в Советском Союзе. При достоверности воссоздания мрачной атмосферы тех лет, автора не покидает чувство юмора.
«Укрощение искусств», дважды изданное на Западе и широко распространявшееся в годы советской власти в самиздате, публикуется в России впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот спектакль был настолько невозможен по своей идеологии для советской Москвы 1933 года, что Главреперткому пришлось издать специальный приказ по этому поводу. В этом приказе пьеса «Дни Турбиных» разрешалась к постановке только и исключительно в Московском Художественном театре. Всем другим театрам Советского Союза ставить эту пьесу запрещалось.
Булгакову сильно повезло. Благодаря приступу великодушия товарища Сталина, он спокойно служил в Художественном театре, где все, начиная с самого Станиславского, относились к нему исключительно хорошо. Он понемногу начинал работать как режиссер и даже как актер (постановка «Пиквикского клуба» 1 декабря 1934 года). После телефонного разговора с вождем народов Булгаков настолько осмелел, что дал несколько новых своих пьес для постановки в московские театры: «Мольер» и «Бег» в Художественный театр и «Пушкин» – нам. Также и театры, зная о знаменитом телефонном звонке, имели смелость эти пьесы к постановке принять и даже успели их поставить, но были жестоко наказаны за свою глупую бестактность: ни одной из этих пьес Главрепертком не пропустил, а дирекциям и художественному руководству сильно влетело за потерю «элементарного политического чутья».
Так в маленьком масштабе повторилась картина, которую можно часто наблюдать в большой политике наших дней. Добрый великодушный дядя Джо всей душой стремится сделать доброе дело – помочь бедным людям, но все его благие намерения разбиваются о злые козни нехорошего советского правительства. Бедный, бедный добрый Джо, несчастный «пленник Политбюро»!
Мой приятель – один из актеров Художественного театра и личный друг Булгакова – рассказывал мне, что Булгаков работал все время с необыкновенной интенсивностью и написал более тридцати пьес, которые никогда и нигде не были поставлены.
– Я пишу для моего письменного стола, – говорил он моему другу.
В 1940 году Булгаков умер. Как ни странно, умер он естественной смертью, в своей квартире в Москве.
В театральном репертуаре назревал жестокий кризис. Все лучшее запрещалось. Не оставалось ничего другого, как обращаться к худшим. И в отчаянии к ним обращались.
В нашем театре была поставлена пьеса Киршона «Большой день». Это была пьеса о войне с Германией, в которой советские войска разбивали немецкие армии в пух и прах к концу второго дня войны. Сам Киршон казался необыкновенно благонадежным в политическом отношении писателем, и прочность его положении не вызывала никаких сомнений. В прошлом он принадлежал к группе пролетарских писателей, был членом партии и имел солидные родственные связи. Он был близким родственником Ягоды – шефа НКВД. Все было, как казалось, в блестящем порядке. Взяли его плохую пьесу, поставили ее богато, не жалея средств, роли поручили лучшим нашим актерам и вдруг – о ужас! Арестовали самого Ягоду, а с ним и всю его родню и, конечно, в том числе и Киршона. А все его пьесы велели немедленно снять с репертуара, чтобы и духу их не было вовсе.
Трудно стало с репертуаром, ох как трудно!
К 1936 году в нашем театре не оказалось в репертуаре ни одной современной пьесы, кроме пьес Максима Горького. И как раз в это время неожиданно встал вопрос о гастрольной поездке в Польшу. Комитет по делам искусств ставил одним условием этой поездки, чтобы в капиталистической Польше был показан хотя бы один спектакль на современную индустриальную тему «о социалистическом строительстве».
Но где было взять такую пьесу? Вернее, где было взять приличную пьесу? Ибо скверных пьес было сколько угодно.
Но всем так хотелось ехать в Польшу – подышать душным воздухом буржуазного эксплуататорского государства, что все-таки решили рискнуть. Из всех плохих пьес выбрали наименее скверную и начали ее ставить. Называлась эта пьеса «Шляпа». Автором ее был Плетнев. Сюжет ее был не сложен.
Завод находится в прорыве и не выполняет план. Но вот появляется молодой директор – твердокаменный большевик, верный сталинец – и быстро налаживает дело, выгнав лодырей и прогульщиков и переарестовав вредителей. В конце пьесы завод уже перевыполняет план.
Для того чтобы сделать эту пьесу терпимым зрелищем для публики, театр прибегнул к самым отчаянным средствам. Роли были поручены самым лучшим артистам театра, в том числе Борису Щукину. Постановка – Рубену Симонову. Отчаянно старался Симонов – просто лез из кожи вон, проявляя необыкновенную изобретательность и стараясь хоть немного оживить скучное бездарное произведение. Так, он решил всячески развить тему «разложения» и «прорыва» на заводе. Симонов ввел даже специальную картину, которую поставил с большим блеском. В этой картине лодыри, прогульщики и хулиганы – молодые люди в матросских тельниках, в фуражках с проломленными лакированными козырьками и с татуировкой на мускулистых руках выходили под ручку с веселыми девицами в белых юбках и в задорных беретах и необыкновенно лихо пели одесские воровские песенки под мастерский аккомпанемент гитар.
Вся эта картина имела весьма благие цели – показать советскому зрителю, до чего могут довести молодежь лень, пьянство и пренебрежение к социалистическим обязанностям. Но, вероятно, этой цели вся эта сценка не достигала и вообще действовала на публику в диаметрально противоположном направлении, вызывая нездоровый интерес к явлениям, в политическом и социальном смысле весьма вредным. Так, во всяком случае, решили Комитет по делам искусств и Главрепертком, когда после генеральной репетиции приказали выбросить из спектакля эту картину и вообще весь «прогульщицкий» веселый элемент с песнями и танцами. «Шляпа» была показана советскому зрителю, но даже и дисциплинированный и выносливый советский зритель не захотел смотреть это произведение театрального искусства. И в Польшу, конечно, мы так и не поехали. А «Шляпу» вскоре сняли, и декорации ее отнесли в самый дальний угол театрального склада.
Трудно стало с репертуаром.
Ко всем несчастьям, к 1936 году Комитет по делам искусств уже вполне постиг суть стиля социалистического реализма и, не ограничиваясь, как раньше, советизацией содержания искусства, повел жестокую кампанию против всякой нереалистической формы или против такой формы, которая казалась Комитету по делам искусств недостаточно реалистической. В самом деле, как могло дальше советское правительство, уже построившее социализм, терпеть эту возмутительную анархию в вопросах формы в советском искусстве? В конце концов, многочисленные, еще не разоблаченные и не ликвидированные антинародные и вообще вражеские элементы в искусстве морочили голову и водили за нос советскую власть, представляя якобы советское содержание в негодной и вредной форме дегенеративного, формалистического, буржуазного искусства. Это было, конечно, не чем иным, как вредительством, саботажем и диверсией на идеологическом фронте.
Дальше терпеть это было невозможно!
После генеральных репетиций всегда происходило критическое обсуждение новых спектаклей Комитетом по делам искусств. Эти обсуждения всегда происходили в комнате заседаний художественного совещания, и на них присутствовали, кроме ответственных работников ВКИ, также и товарищи из Отдела агитации и пропаганды ЦК партии и из Главреперткома. В особенно важных или в особенно сомнительных случаях, приезжал и сам Керженцев – председатель Комитета по делам искусств. Во всех других случаях – его заместитель Боярский.
В выступлениях этих руководящих лиц всегда можно было уловить самую новейшую линию правительства в области искусства. И сейчас это была линия агрессивного, воинствующего реализма.
Раз, во время обсуждения спектакля «Далекое» (Афиногенова), Боярский сказал, что ему не нравится музыка и он предпочел бы, чтобы ее в спектакле вообще не было. Кто-то из наших режиссеров пытался ему возражать, но Боярский прервал его, заявив, что «может быть, музыка сама по себе и хороша, но это не имеет никакого значения, так как всякая музыка в драматическом спектакле является одним из признаков формализма и Комитет по делам искусств в принципе против музыки в театре». Как замерли сердца у нас троих – членов музыкальной коллегии, когда мы услышали этот суровый приговор нашему любимому искусству из уст одного из вершителей советской художественной политики.