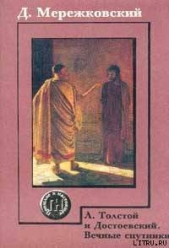Достоевский
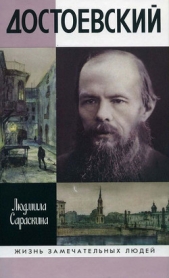
Достоевский читать книгу онлайн
"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Достоевский, уже сорокалетний, утверждал, что Шиллер вошел в плоть и кровь русского общества: «Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже». Братья Достоевские готовы были защищать и отстаивать «своих» со всей юношеской горячностью. «Пусть у меня возьмут все, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир! Что мне эти внешности, когда мой дух голоден! Тот, кто верит в прекрасное, уже счастлив!.. — писал Михаил отцу в ноябре 1838 года, признаваясь, что и сам пишет стихи, и уже начал драму, и призывал родителя порадоваться вместе. — Поэзия моя содержит всю мою теперешнюю жизнь, все мои ощущения, горе и радости. Это дневник мой!»14 Подозревая, что отец отругает его за пустое времяпровождение (так и случится), Михаил все же открылся ему как другу. Делясь с братом своими поэтическими опытами, он знал наверняка, что может рассчитывать на понимание и поддержку. «Я прочел твое стихотворение, — писал ему Федор. — Оно выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний. Говоришь, что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши ее...»
В семнадцать лет, еще не став писателем, Достоевский растил в себе дар художника и мыслителя; ему дано было тонко чувствовать и глубоко проникать в мир возвышенных идей и высоких образов. «В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа “Монастырь” Вальтер Скотта... И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище».
В том самом письме брату, где, как провинившийся школьник, он жаловался на «подлецов преподавателей», философия определялась им через поэзию: «Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии... Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!» Как истинный художник создавал он портрет своего обожаемого друга Шидловского:
«Прекрасное, возвышенное созданье, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер».
Запойное всепоглощающее чтение концентрировало мысли и чувства до степени поэтических формул; литература, выстраивая сознание, давала тот особый язык, с помощью которого устанавливалось родство избранных душ. Достоевский, без сомнения, уже в юности был тем, кем стал потом, — только пока еще не знал об этом. Мономания, или тоска по литературе, создала особое поле жизни — внутри реального жизненного пространства. На своей территории, в своей нише он не был изгоем — напротив, был сверхполноценен, избыточно одарен. Пребывание в некоем литературно-поэтическом коконе, позволившее сохранить, а не растратить впустую особый дар, давало и другой удивительный эффект: высокий градус читательского вдохновения компенсировал провалы во внешней жизни. Сверхнасыщенное чтение, переживаемое как живая жизнь, сперва позволило ему с тайной гордостью признать себя гражданином литературы — а потом уже догадаться о призвании.
Глава вторая
СМЕРТЬ ОТЦА И ВЫБОР СУДЬБЫ
Пятого мая 1839 года Федор написал отцу письмо с горячей благодарностью за присылку 75 рублей для уплаты долга. Он понимал, что у отца тяжелые затруднения и что «нужду родителей должны вполне нести дети». Однако, заверив отца, что не будет «просить многого», колко заметил: «Не пив чаю, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги». Через пять дней он внес в неотправленное письмо ряд дополнений — о том, что лагерная жизнь требует иметь хотя бы 40 рублей, куда не входят расходы на чай и сахар (и снова приписал: «Уважая Вашу нужду, не буду пить чаю»), но входит стоимость двух пар сапог, сундука для книг, почтовых принадлежностей, любезностей служителей. Всего получалось, при самой строгой экономии, около 40 рублей; но поскольку от 75 оставалось еще 15, Федор просил хотя бы 25: «Пришлите мне эти деньги к 1-му июню, ежели Вам хочется помочь Вашему сыну в ужасной нужде».
В письме звучало и еще несколько нарочитых фраз: сын писал о «совершенной необходимости» абонироваться на французскую библиотеку, о своем желании «вырваться из училища», о нелюбви к математике — «что за глупость заниматься ею» — и о том, что делаться Паскалем или Остроградским (академик начнет преподавать в училище с 1840 года) ему ни к чему, ибо «математика без приложенья чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре». Всё это могло быть намеком родителю — дескать, вы, папенька, запихнули меня в инженеры, велите заниматься вздором, так хоть содержите меня прилично, чтобы не было стыдно перед товарищами. Впрочем, сын не скрывал причину, по которой вынужден был то и дело просить деньги: «Как горько то одолженье, которым тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи».
Но Михаил Андреевич на намеки не реагировал; дети, как правило, не дерзили ему, а он старался выполнять их частые денежные просьбы. В декабре 1937-го Федору было послано 70 рублей, в феврале 1838-го — 50. В июне того же года он благодарил отца еще за одну присылку и писал, что купил кивер, потому что собственные кивера были у всех однокашников, а «казенный мог бы броситься в глаза царю». «Теперешние мои обстоятельства денежные немного плохи... Из Ваших присланных денег истратил довольное количество на казенные надобности... Если можно, папенька, пришлите мне хоть чтонибудь», — просил он снова. Осенью — опять: «Вы мне приказали быть с Вами откровенным, любезнейший папенька, насчет нужд моих. Да, я теперь порядочно беден. Я занял к Вам на письмо и отдать нечем. Пришлите мне что-нибудь не медля. Вы меня извлечете из ада. О ужасно быть в крайности!»
Не получая в своей нищей молодости никакой помощи из дома, Михаил Андреевич хорошо знал, что такое крайность, и потому просил сыновей быть экономнее и бережливее. «Ежели у вас осталось еще сколько-нибудь денег, то уведомляй меня всякую неделю...» — писал он Михаилу в ноябре 1837-го, еще в костомаровский период. «Деньги, мой друг, береги... на черный день... Ежели старые вещи ваши, как то платье, белье и другие для вас, особливо для Феденьки, не нужны, то счесть их и сохранить», — напоминал отец в феврале 1838-го. Ни скаредности, ни мелочности в этих увещеваниях не было — а только гнетущая бедность, которая и в самые радостные моменты (поступление Михаила в инженерные юнкера) думает про черные дни.
И сыновья вполне сочувствовали страхам отца, понимали его упрямый характер, плохо уживавшийся с реальностью, но все же откликавшийся на добро. «Напиши, милый друг, к Куманиным, поблагодари их за родственное участие, а особенно за пособие», — просил он Михаила, узнав, что свояк заплатил за Федину учебу в училище; другое дело, что пересилить себя и лично благодарить богатых родственников не хотел. «Мне жаль бедного отца! — писал Федор старшему брату в октябре 1838-го. — Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить. — А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье. Но он очень разочарован в нем. Это, кажется, общий удел наш».
Значит, наивный Михаил Андреевич думал о людях лучше, чем они того заслуживали?
Понятно, что он тревожился не только за учебу сыновей. Гораздо важнее было иметь уверенность в их поведении. Поэтому, когда в училище «случилась история» и пятерых кондукторов сослали в солдаты (как объяснит Григорович, за избиение товарища, заподозренного в фискальстве, и за хулиганство против дежурного офицера, которого буяны забросали картофелем), Федор спешил заверить папеньку, что сам «ни в чем не вмешан, но подвергся общему наказанью»: на два месяца всю роту заперли в училище, вскрывали и читали письма.