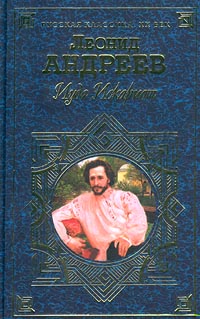Воспоминания
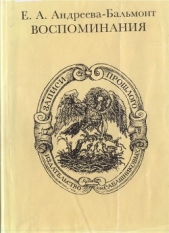
Воспоминания читать книгу онлайн
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (1867–1950), жена известного русского поэта К. Д. Бальмонта, благородная и обаятельная женщина, обладала живым и наблюдательным умом и несомненным литературным талантом. Это делает ее мемуары — бесценный источник по истории русской культуры и быта сер. XIX — нач. XX вв. — предметом увлекательного чтения для широких кругов читателей. Воспоминания Е. А. Андреевой-Бальмонт, так же как и стихи и письма К. Д. Бальмонта к ней, напечатанные в приложении, публикуются впервые. Книга иллюстрирована фотографиями из семейного архива А. Г. Андреевой-Бальмонт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я уже не раз влезала на этот шкафик и приспособилась доставать до верха его, где стояло блюдо с ягодами. Поставив ногу на выступ, я держалась левой рукой за резную колонку, брала в зубы кончик фартука, в котором лежала развернутая бумага, и, осторожно загребая, стараясь не давить ягоды, ссыпала их в фартук. Спрыгнув на землю, я затирала носовым платком следы своих пыльных подошв на полированном блестящем дереве и бежала, еле переводя дыхание от сердцебиения, в каморку под лестницей, где пересыпала ягоды в заранее приготовленную коробочку и, стараясь идти как можно спокойнее, как ни в чем не бывало, спускалась в сад через заднее крыльцо, где угощала братьев и нашу босоногую команду. Последняя, конечно, не спрашивала, откуда угощение, и глотала клубнику со стебельками, вишни с косточками. Раз как-то Миша спросил, уписывая вишни: «Où les as-tu prises? Tu les as volées?» — «Quelle idée! — ответила я совершенно искренне, оскорбившись этим подозрением. — Je les ai prises sur l’armoire rouge de maman». — «Sans la permission de maman, c’est ce que je dis, tu les as volées» [48]. На минуту меня это рассуждение смутило. Я чувствовала, что он прав, но формально, по существу я не ворую, я беру, когда много чего, и даю тем, у кого мало. Я никогда не могла видеть что-нибудь в большом количестве — морковь, репу, огурцы, которые в больших кучах складывали у нас на погребице, или огромные горшки с творогом, или тазы с вареньем, которое перекладывалось в банки; я думала, что все это надо непременно не убирать, не хранить, а раздавать тем, у кого их нет. И никто лучше меня не распорядился бы этим добром, казалось мне.
И я долго не понимала, что ворую, настолько долго, что лет девяти-десяти, когда я уже ходила на исповедь и очень добросовестно перебирала в уме свои грехи, в которых надо было покаяться, я этот грех кражи не признавала в себе. Я долго колебалась, не повинна ли я в «сребролюбии», потому что любила новенькие серебряные монеты, в «клятвопреступлении», потому что обещала и не сдерживала обещание. Но в краже! Я никогда ничего не таскала у братьев, не обманывала их. В этом я была так же неповинна, как в обжорстве. Обжорство казалось мне самым отвратительным грехом. Старшие сестры и гувернантки считали меня самой правдивой среди младших детей. Когда они разбирали наши ссоры, старшие всегда верили мне и ссылались на мои показания: «Катя так говорит, так, верно, и было».
Встречали меня наши пололки — Ося и мать ее — всегда одинаково ласково, приносила ли я им что или приходила с пустыми руками. За гостинцы они благодарили меня, завертывали их в ситцевый платок и клали под подушку. У них был совсем другой тон с нами, детьми, чем у нашей прислуги. И держали они себя как-то независимо и гордо и, что меня особенно изумляло, совсем не боялись моей матери, во всяком случае гораздо меньше, чем нашего пьянчужки садовника Григория. Как-то раз мать моя, глядя, как старуха пололка стрижет большими садовыми ножницами газон около клумб, закричала мне с балкона: «Скажи ей, чтобы поровнее стригла». — «Чего поровнее, — громко ответила старуха, бесстрашно смотря на мать. — Каких таких тебе еще аллилуев!» — «Что она говорит?» — спросила мать. Я не знала, что сказать, чтобы не подвести старуху. «Она говорит… — мямлила я, — я не поняла, что она говорит». — «Чего не поняла, так и скажи, каких ей еще аллилуев». Старуха всегда подсмеивалась надо мной, но как-то жалостливо, что я так пужаюсь своей мамки. «Ведь своя ты ей, небось не съест».
И мать и дочь очень интересовались предметами нашего обихода, которых они, очевидно, никогда не видали [49]. Они рассматривали перламутровые пуговички на моих башмаках, кружева на моих панталончиках. И раз Ося пришла в совершенное восхищение от кораллового ожерелья, которое мне только что подарили. Я сняла его с шеи, дала Осе посмотреть его поближе. Она держала нитку в своих заскорузлых руках и не могла налюбоваться на нее. Я надела ожерелье ей на шею и сказала, чтобы она поносила его. Когда я увидела, как заблестели глаза у нее, я прибавила: «Я тебе их дарю, они теперь твои». — «Ну буде, поиграла и буде, — сказала мать, — бери свои бусы, барышня, и иди домой». Сколько я ни уговаривала Осю оставить кораллы себе, она, потупившись, молчала, а мать подталкивала меня к выходу. «Иди в сад, и нам скоро на работу».
Тут я невольно вспомнила о случае, который был со мной прошлым летом: горничная старших сестер, очень противная толстая девушка, все приставала ко мне: «Барышня, подарите мне ваше колечко». Колечко это — широкий золотой обруч, на котором торчала маленькая бирюза. Это был последний подарок бабушки перед смертью. Мне это колечко не очень нравилось, оно было мне широко, вертелось на пальце, и я боялась его потерять. Я уже не раз пыталась сплавить его в какое-нибудь верное место, но, к сожалению, оно не проходило в щель в полу нашей детской, куда мы с братьями спускали ненужные нам вещи: крестильный крестик на золотой цепочке, пуговицы, вязальные спицы нашей няни. Потом, лежа на животе на полу, мы старались выудить их оттуда, но это почти никогда не удавалось. Чаще всего они оставались там, поблескивая в темноте до того времени, когда буфетный мужик, по распоряжению матери, поднимал половицу, и мы, визжа от радости, извлекали оттуда забытые нами вещички. Поэтому мы были уверены, что все потерянные в саду или в доме предметы найдутся в конце концов у нас в подполье. Когда старшие нас спрашивали о какой-нибудь книге или тетради нот и заставляли искать их, мы спокойно отвечали: «Провалились в подполье, наверно» или «украли полотеры», как говорила одна наша горничная.
Через некоторое время мать заметила отсутствие кольца и спросила: «Где твое колечко?» Видя, что я растерянно молчу: «Ты потеряла его?» — «Нет». — «Так где же оно? Пойди и принеси его». Я не трогалась с места. «Брать подарки назад — нельзя», учили нас всегда, когда мы отнимали друг у друга подаренные вещи. Я предпочла правду и сказала, что подарила кольцо Елене. Мать очень рассердилась: «Ты в уме, бабушкин подарок! Позови ко мне Елену». Я побежала за ней. «Зачем это меня мамаша зовут, не знаете?» — испуганно спросила Елена. «Я сказала, что подарила тебе кольцо, она очень рассердилась». — «Какое кольцо?» — «Да что я тебе подарила». — «Знать не знаю, что за кольцо такое! Скажите мамаше, что сейчас иду», — сказала Елена и ушла в свою каморку, стала там рыться в сундуке, потом быстро пошла в детскую, а оттуда уже спокойным шагом направилась к матери. Я пошла за ней, уверенная, что мать, убедившись, что я сказала правду, если не будет хвалить меня, то по крайней мере не будет бранить. Но каково было мое изумление, когда Елена стала уверять мою мать, что не знает, о каком колечке идет речь, и наконец припомнила, что она недавно «подобрала за барышней колечко и отнесла его на комод к Амалии Ивановне. Там оно, верно, и лежит». — «Катя, пойди принеси его мне, а ты ступай, — сказала она Елене, — и если что подбираешь за детьми, отдавай старшим в руки».
Я не знала, что думать, значит, мать поверила Елене и думает, что я ей соврала. На комоде действительно на самом видном месте лежало мое кольцо. Мать взяла его у меня и сказала неожиданно ласково: «Подарки не надо передаривать. Я колечко оставлю у себя, пока ты не станешь поумнее. А теперь пойди пригладься…» Я никак не могла понять, как мать узнала, что не я соврала, а Елена.
Когда Ося с матерью работали в саду, я всегда была около них и старалась им помогать, делать то же, что они: полола траву на клумбах, мела дорожки, увозила сор на тачке. И старуха относилась очень серьезно к тому, что я делала, не как к игре, а как к настоящему делу. Она никогда не хвалила меня, не порицала, а молча показывала, как за что надо взяться. Когда они работали, они вообще не разговаривали ни между собой, ни со мной. И я привыкла молча быть около них. Старуха не позволяла мне поливать цветы, не позволяла даже подходить к ним, потому что лейки были очень тяжелые, и я, поднимая их, обливала свои нарядные сапожки. Это меня страшно огорчало. Наконец нам заказали лейки поменьше и полегче, и я никогда не пропускала часа на заходе солнца, когда Ося с матерью, гремя пустыми лейками, шли за водой. И никогда мне не надоедало поливать цветы. Мне казалось, что цветы ждут не дождутся нас, особенно в жаркие дни, что они страшно наслаждаются, когда на них попадают первые капли влаги из моей лейки. Я так помню острый запах мокрой земли и благоухание цветов, только что политых! «Буде, буде, не заливай цветиков, — кричала мне старуха, грубовато отталкивая меня от клумбы, — что зря воду льешь?» — «Дай, я только георгины полью!» — умоляла я ее, когда видела, как из ее лейки сильная струя воды, сверкая на солнце, ниспадала на высокие кусты георгин. «Погоди маленько, годочек-другой, а пока росточком не вышла».