Московские тюрьмы
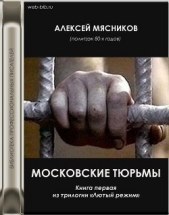
Московские тюрьмы читать книгу онлайн
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.
Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.
Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «Лютый режим». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…
Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Два заявления
После первой встречи в лефортовских стенах Кудрявцев вызвал меня через три дня — 28 августа. Принес блок «Явы». Само радушие. Передал ли он мою записку Наташе? Передал. А она мне? Нет, ничего не написала. Это меня огорчило. Как не воспользоваться хорошим отношением следователя? Неужели она не понимает, как я волнуюсь, как мне дорого получить от нее несколько строк? Не раз Кудрявцев брал записки для Наташи, я просил его, чтоб она ответила мне, и всякий раз потом он пожимал плечами и сочувственно говорил, что она не изъявила желания. А ведь она, как потом выяснилось, тоже передавала записки и тоже огорчалась, потому что ни мне от нее, ни ей от меня записок он не отдавал. Он нас обоих обманывал.
Но до этих открытий еще далеко. Пока Кудрявцев был мне приятен, уверял в личной симпатии и в том, что хочет помочь мне, как можно быстрее выбраться на свободу. «Вам не повезло с друзьями. Лично против Вас и Вашей жены мы почти ничего не имеем, во всяком случае, никто вам не желает зла». Он говорит со мной откровенно и рассчитывает на взаимную откровенность с моей стороны: «Тогда мы сразу договоримся, и вы перестанете представлять социальную опасность, а пока мне еще надо убедить в этом прокурора. Помогите же мне сделать все для того, чтобы помочь вам». — Раскрывает Уголовный Кодекс на статье 38 «Обстоятельства, смягчающие ответственность», тычет пальцем в пункт девятый: «Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное способствование раскрытию преступления».
— Игорь Анатольевич, я раскаиваюсь, что написал «173 свидетельства», — почему вы меня держите здесь?
— Нет, вы не раскаиваетесь, а уходите от ответственности. Как я докажу своему начальнику, что вы действительна раскаиваетесь? По меньшей мере, нужно от вас заявление.
— И тогда не будет суда?
— Тогда может быть принято решение в соответствии со статьей 50-й, — Кудрявцев переворачивает страницу УК и останавливает указательный палец на третьем абзаце статьи: «Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания». — Самое большее, что вам грозит в этом случае, — товарищеский суд.
— Хорошо, я напишу заявление.
Кудрявцев быстро, не отрывая пера от бумаги, как бы сплошной линией, строчит протокол допроса. Дает на подпись. «Гуревич читал рукопись «173 свидетельства» — Филиппов читал «Встречи».
— Игорь Анатольевич, об этом, кажется, не было речи.
— Ну и что? — удивляется Кудрявцев. — Разве вы не давали им свои рукописи для прочтения?
— Но я не говорил, что давал. Читали они или нет, я не помню.
— Вот видите! Вы говорите, что чистосердечно раскаиваетесь, а сами отрицаете факты, вводите следствие в заблуждение.
— С чего вы взяли? Какие факты?
— Такие, что Гуревич, Филиппов и все, кому вы давали свои тексты, допрошены и все признали. Я не должен вам этого говорить, но, пока вы не вывели меня из терпения, слушайте меня внимательно. Суд поверит не вам, а свидетелям, вас будут уличать и тогда уж, будьте уверены, получите на всю катушку.
— Можно взглянуть на их протокол?
Кудрявцев обиделся:
— Если вы мне не верите, то вы их увидите на закрытии дела.
Неудобно стало. Человек хочет мне добра, а я его проверяю. Не доверять ему не было оснований, ведь, как я полагал, он меня еще не обманывал.
— Извините, я не ставлю вас под сомнение. Но хотелось бы ознакомиться со свидетельскими показаниями, может, я что-то забыл и надо вспомнить, чтобы потом не было недоразумений.
— Сейчас я не могу предъявлять протоколы допросов. Важно, чтобы вы сами вспомнили. Я помогу вам.
И он перечисляет моих знакомых, которые признались в том, что читали «173 свидетельства» или «Встречи»: Попов, Гуревич, Филиппов, Пурунджан, Захаров, Величко. А какой им смысл скрывать? За то, что читали, им ничего не будет, а за лжесвидетельство — год лишения свободы. И какой смысл мне запираться? Только наматываю себе срок. Все равно поверят свидетелям.
— Кстати, что было в папке, которую вы оставляли на хранение у Филиппова?
Удар ниже пояса. О папке знали только два человека: я да Коля. Летом прошлого, 1979 года, когда сосед Величко донес участковому, что я антисоветчик, мы уезжали в отпуск, и я не рискнул оставлять экземпляры «173 свидетельств» дома — отнес папку к Коле. Просто положил в дальний угол книжной стенки и сказал, что после отпуска заберу. Коля даже не поинтересовался, что там. Через месяц я забрал папку. И если Кудрявцев спрашивает, он мог узнать об этом только от одного человека — от Коли. А Коля — кремень. Если он начал рассказывать, о других и говорить нечего, значит, следователь не врет: друзья мои дают показания. А я отрицаю. Какими глазами мы будем смотреть друг на друга в суде? Они говорят, вынуждены говорить правду, а я буду спорить и врать. Мы будем уличать друг друга в обмане, перед лицом суда, принародно я скажу, что мои друзья оговаривают меня. Я оскорблю их и все, что нас связывало, поставлю их в положение вдвойне оскорбительное и противное, ибо в этом случае они будут давать не просто показания, а показания против меня. Что они обо мне подумают? Хорош правдолюбец, который, чтоб снять обвинение в клевете, по сути дела, клевещет на своих друзей. Вот потеха для прокурора! Нет, этого нельзя допустить.
Про папку у Филиппова я не вспомнил, но сказал следователю: «Если кто из знакомых говорит, что читал, я отрицать не буду, им лучше знать, специально не давал, но и не прятал рукописи от своих друзей». Относительно Гуревича и Филиппова в дополнении к протоколу написал: «Не помню, не уверен». Сложные чувства боролись во мне.
Сосновский с Барановым советовали то же, что и следователь: немедленно писать заявление, пока не поздно, «не будь дураком, и через несколько дней тебя выпустят». И, правда, обидно было упускать шанс выйти на свободу, очень не хотелось сидеть без толку, и кому какой вред, если раскаюсь? Да и стоят ли «173 свидетельства» того, чтобы калечить из-за них жизнь? Рукопись все равно изъята, утрачена — тем легче от нее отказаться, пожертвовать ей, чтобы получить возможность дальше работать, сделать что-нибудь посущественней.
Я написал заявление на имя Кудрявцева. Честно изложил обстоятельства появления обоих инкриминируемых текстов. Выразил сожаление, что дал повод для обвинения в порочащих государственный строй измышлениях, хотя считаю, что в «173 свидетельствах» изложено пусть субъективное, но искреннее мнение об экономической и политической ситуации в стране, и, если оно получилось слишком эмоциональным и резким, если оно ошибочно, то за это я готов нести ответственность. Но не за клевету, которой в тексте не может быть, так как я высказывал только свои взгляды и убеждения. Да, текст имеет негативный, критический характер. Я специально сформулировал проблемы, от которых, на мой взгляд, зависит нормальная жизнедеятельность общества. При этом я не преследовал никакой иной цели, кроме той, чтобы эти проблемы нам всем сообща обсуждать и решать. Как художнику необходимы светлые и темные краски для реалистического изображения, так и социолог не может обойтись исключительно светлыми тонами в характеристике общественной жизни. Как врач заостряет внимание на болезненных явлениях организма, чтобы их устранить и вылечить, то же самое сделал и я в отношении нашего общественного организма. В советской печати мной опубликовано около сотни статей и брошюр, «173 свидетельства» — единственное в своем роде исключение в моей работе, поэтому перечеркивать из-за него все, что я сделал, лишать меня возможности работать, было бы крайне жестоко и неоправданно. Рукопись не предназначалась для распространения. Написана на проект, а не на утвержденную Конституцию, поэтому содержание рукописи давно устарело. Три года вся машинописная закладка из четырех экземпляров лежала дома — какое же это распространение? Что касается знакомства с рукописью моих друзей, об этом точно могут сказать только они сами. Я не прятал ничего мной написанного. В числе прочих, как опубликованных, так и неопубликованных сочинений, мои знакомые могли видеть инкриминируемые тексты, я этого не отрицаю, но кто из них и что именно видел или не видел — этого я не могу сказать.

























