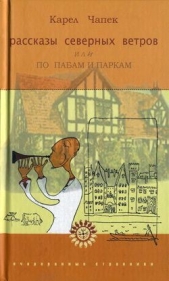Хорошо посидели!

Хорошо посидели! читать книгу онлайн
Даниил Аль — известный ученый и писатель. Его тюремные и лагерные воспоминания посвящены людям, которые оставались людьми в сталинских тюрьмах и лагерях. Там жили и умирали, страдали и надеялись, любили и ревновали, дружили и враждовали…
Поскольку юмор, возникающий в недрах жизненной драмы, только подчеркивает драматизм и даже трагизм происходящего, читатель найдет в книге много смешного и веселого.
Следует подчеркнуть важнейшее достоинство книги, написанной на столь острую тему: автор ничего не вымышляет и ничем не дополняет сохранившееся в его памяти.
Книга написана живым образным языком и вызовет интерес у широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прокурор обратился к Трофимову:
— Товарищ следователь, прежде чем задать вопрос, вы должны сформулировать и записать его на бланке протокола допроса. Ответ подследственного вы должны записать дословно. При любом сокращении его ответа смысл сказанного подследственным не должен быть искажен ни в малейшей степени. Вы меня поняли?
— Так точно, товарищ прокурор.
Трофимов стал заполнять бланк протокола допроса, а мы с прокурором изучали внешность друг друга. Ничего примечательного в его лице я не заметил. При худощавости фигуры лицо у этого подполковника юстиции имело округлые черты. Довольно длинный нос оканчивался закруглением. Волосы были темные курчавые, с проседью. Лоб переходил в глубокие залысины. «Сухой и педантичный человек», — подумал я, глядя на него.
Наконец Трофимов зачитал свой вопрос: «По вашему делу, в качестве свидетеля допрошен Урицкий (я не могу сейчас вспомнить его имя). Знаете ли вы его? А если знаете — расскажите, откуда и как вы с ним были знакомы?»
Я ответил, что Урицкого знаю еще с довоенных времен. Он учился на историческом факультете на два курса младше меня.
Затем последовал стереотипный в таких случаях вопрос: «Какие между вами были отношения, и не было ли между вами личных счетов?»
Я ответил, что отношения были хорошие и что личных счетов между нами не было.
Тут встрял прокурор.
— Значит, нет оснований предполагать, что свидетель Урицкий мог вас оговорить?
Трофимов записал этот вопрос в протокол, после чего предложил мне дать на него ответ.
— Поскольку вопрос поставлен так: есть ли основания предполагать, что свидетель Урицкий меня в чем-то оговорил, — отвечаю: основания предполагать такое есть.
Прокурор и Трофимов переглянулись. Я продолжал:
— Находясь на свободе, я знал, что Урицкий арестован по статье 58–10 часть 2-я и осужден вместе с группой своих товарищей на двадцать пять лет лагерей. Если его показания получены не до его ареста, а в тюрьме, тем более после оглашения или под угрозой получения такого срока, есть основания предполагать, что в этих условиях он мог меня оговорить.
— Запишите ответ, — злобно буркнул прокурор. — В конце еще раз повторите, что личных счетов у него с Урицким нет. — Трофимов снова погрузился в записывание ответа. Я же стал мучительно вспоминать, когда и о чем я разговаривал с Урицким.
Надо сказать, что до войны мое знакомство с Урицким было чисто шапочное. На курсе, на котором я учился, было триста студентов. Кроме своих, у меня было много друзей среди старшекурсников.
На сколько-нибудь близкие общения с младшими не оставалось времени. Но вот кончилась Отечественная война. В Ленинград, на истфак, в залы Публички вернулись оставшиеся в живых истфаковцы. Большинство студентов истфака, ушедших на фронт, погибло. Поэтому каждое знакомое лицо из того, «из раньшего», из довоенного времени казалось родным и близким.
Однажды в Публичке, возле полок справочной библиотеки, я встретил Урицкого. Мы бросились друг к другу, как старые, близкие друзья. Долгое рукопожатие, вопросы: «Где ты воевал? А где ты?..» Мы пошли в курилку, наперебой рассказывали друг другу о своих фронтовых годах, о планах на будущее.
Потом мы встречались с Урицким в Публичной библиотеке еще не раз. Разговаривали, как правило, в курилке. Сегодняшнему посетителю Публичной библиотеки будет очень трудно представить себе, что курилки в виде отдельного помещения тогда в библиотеке не было. Курили, сидя на длинных и узких кожаных диванах, оставшихся еще с царских времен и стоявших в открытом фойе. Оно находится между входом в столовую и большой лестницей, ведущей в гуманитарные читальные залы. Такое было возможно потому, что курильщиков тогда было куда меньше, чем сейчас. Курящих женщин — были вообще единицы. Мы — бывшие фронтовики — курили все. Но, повторяю, нас, студентов сорок первого года, ушедших в ополчение, осталось немного.
Сидя теперь на допросе, я мучительно вспоминал — о чем я говорил с Урицким во время нескольких наших мимолетных встреч, что могло послужить к обвинению меня в антисоветской агитации. Ничего такого,я, как ни напрягал свою память, припомнить не мог.
Трофимов, между тем, закончил формулировку следующего вопроса и зачитал его мне:
«Свидетель Урицкий показал, что вы в 1948 году систематически вели с ним антисоветские разговоры, возвращаясь с совместных занятий в аспирантуре университета. Вы подтверждаете это?»
Задавая этот вопрос, ни Трофимов, ни прокурор не могли и подозревать, какой поток мыслей пронесся в моей голове, когда я этот вопрос услышал. Я понял, что Урицкий, глубоко душевно травмированный и подавленный диким сроком, который он получил, не смог противостоять давлению и дал, был вынужден дать, против меня какие-то показания. Но при этом он оставлял мне полную возможность доказать, как дважды два четыре, что эти его показания совершенно не соответствуют действительности. Допрашивавший его следователь или оперативник, спешивший смастерить дело на меня, не удосужился проверить правдивость обстоятельств, сообщенных Урицким, и радуясь, надо полагать, своему успеху, быстренько записал его показания.
— Записывайте ответ, — сказал я Трофимову. — Показания Урицкого не подтверждаю. Антисоветских разговоров с Урицким, возвращаясь с ним с совместных занятий в аспирантуре Университета я не вел.
— Советую вам говорить правду, — прервал меня прокурор.
— Записывайте, — повторил я. — Не вел, хотя бы потому, что никогда с совместных занятий в университетской аспирантуре, тем более в 48-м году, с Урицким не возвращался. И не мог возвращаться. Я в аспирантуре университета вообще никогда не учился. Окончил аспирантуру Публичной библиотеки. Притом в 1947 году уже защитил кандидатскую диссертацию. Прошу эти обстоятельства проверить и приложить к делу соответствующие документы.
— Писать? — спросил Трофимов прокурора.
— А как же, — разочарованно бросил прокурор. — Запишите и проверьте данные обстоятельства. Ну, хорошо, — обратился он ко мне и к Трофимову, — свидетель Урицкий мог ошибиться в обстоятельствах. Обратимся к существу его показаний.
Трофимов вновь погрузился в запись очередного вопроса, а прокурор уставился в текст протокола допроса Урицкого, из которого следователь что-то старательно выписывал.
Следующий вопрос «по существу» звучал так:
«Свидетель Урицкий показал, что, рассказывая ему, что, находясь в составе частей Красной Армии, освобождавших в 1944 году Эстонию, вы заявили, что в Эстонии богатые крестьяне, то есть кулаки, жили хорошо, с приходом советской власти они были разорены. Вы подтверждаете эти показания свидетеля Урицкого?»
— Чему вы улыбаетесь? — спросил прокурор. — Что тут смешного?
Я действительно улыбался. Не мог сдержать улыбку. А прокурор, видимо, понял, что сейчас обнаружится новая накладка, допущенная тем, кто допрашивал Урицкого. Конечно, он, как и тот, кто записывал, не мог ухватить существо того подвоха для следствия, который Урицкий заложил в свои показания. Он знал, что я, как историк, разгляжу конец брошенной мне веревки, ухвачусь за него и выплыву из омута, в котором меня будут топить.
Позволю себе здесь небольшое отступление. Студентам исторического факультета моего поколения выпало исключительное счастье учиться у целого ряда великих мужей гуманитарных наук. Достаточно назвать имена наших учителей — академики Е. В. Тарле, В. В. Струве, И. И. Толстой, Б. Д. Греков, С. А. Жебелев, профессора — Гр. и М. Гуковские, М. Д. Приселков, А. В. Предтеченский, С. Н. Валк, Б. А. Романов, С. И. Ковалев. Им помогала плеяда блестящих доцентов — Н. Ф. Лавров, Д. С. Лихачев, В. В. Мавродин, С. Б. Окунь, Л. Л. Раков и многие другие. Каждый из них по знанию своего предмета, по знанию источников, древних и современных иностранных языков далеко превосходил многих сегодняшних академиков. При этом, однако, нельзя забывать, что вместе с этим именно нашему поколению студентов-историков ударили по головам «Кратким курсом» истории ВКП(б), фальсифицировавшим и унифицировавшим всю мировую, а особенно советскую историю. В условиях репрессий 1937–1938 годов планка догматизма и начетничества была поднята до предела. Запоминание наизусть сталинских оценок и толкований исторических событий стало совершенно обязательным. «Краткий курс» мы обычно целым коллективом заучивали по принципу — «вопрос — цитата». Например, вопрос: «Что сделали Зиновьев и Каменев на 233 странице?» Ответ: «Не успев высунуться, ушли в кусты». «Кто является «уродами типа?»» — «Шацкин и Ломинадзе».