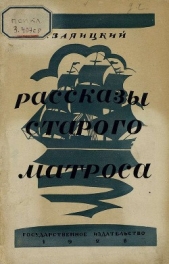Рассказы старого трепача

Рассказы старого трепача читать книгу онлайн
Воспоминания известного режиссера, художественного руководителя Театра на Таганке охватывают без малого восемь десятилетий. Семилетний Юра присутствовал на похоронах Ленина в 1924 году; «Евгений Онегин» — премьера театрального мэтра Любимова — состоялась в 2000 году.
В своей книге автор придерживается хронологии: детство, первые театральные роли, создание легендарной Таганки, изгнание из СССР, возвращение, новые спектакли. По ее страницам проходит целая вереница людей — друзей, единомышленников и недругов, врагов. Эти люди во многом определяли культурно-политическую жизнь страны в XX веке. И это придает мемуарам Юрия Любимова удивительную неповторимость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Принимать «Человека с ружьем» явилась большая комиссия, Беспалов тогда был председатель. Но как же, первый раз на сцене такое! Тогда уже Штраух играл. Штраух и Щукин. Шли разговоры, что Крупской больше понравился Штраух, что он более точен, более похож на Владимира Ильича, а Щукин — Сталину. Это и решило все, конечно: ему и Народного СССР дали и так далее — впервые дали эти звания. Погодин был сильно пьющий господин, комиссия, которая принимала, сделала свои замечания, уточнения. И Погодина просто заперли в кабинет, чтоб он текст переделал, который сказала комиссия. Но потом комиссия второй раз приехала и разрешила. И когда Щукина после такого успеха, награждений всех, признания правительства начали расспрашивать, как он сумел проникнуть в такой гениальный образ — ну, обычная баланда советская — «кто вам помог создать?» — он задумался и говорит:
— Да, пожалуй, больше всего образ Тартальи из «Турандот», — ну и тут все, кто его расспрашивал, искусствоведы в штатском, все были возмущены. Но простили, потому что уж создал. А так, конечно, наказали бы.



До войны театр представлял собой скучную картину. Учеба моя как раз началась с закрытия театра. Происходила постепенная унификация, стирание театра, приведение полного, единого однообразия с образцом: вот МХАТ, вот лучший театр страны, равняйтесь по нему. Это был полный разгром искусства: закрыли Второй МХАТ, закрыли театр Мейерхольда. Стали сажать писателей. Они хотели иметь полное единообразие. Это было уничтожение. Это можно было видеть по выставке «Париж — Москва — Париж». Если вы были на этой выставке, вы видели, как все обрывается, весь расцвет обрывается, наступает так называемая эра социалистического реализма. Для искусства это пустыня Сахара. И отсюда анекдот знаменитый: как избавиться от Сахары — ввести там социализм и сразу там не будет песка. Эта система, куда она приходит, там дефицит сразу — ничего не хватает. И прежде всего эта система не терпит богатства духовной жизни. Это факт.
Почему я все привожу анекдоты, потому что это единственно, чем тогда была жива страна — она на все реагирует анекдотами: армянские радио бесконечные. Про Ленина цикл анекдотов, про Брежнева цикл анекдотов, про Чапаева. Я сам помню, мальчишки бегали продавали: «Шесть условий товарища Сталина — шесть условий победы — цена три копейки, каждому условию цена грош», — ребята бегали орали, даже при диктаторе. Как при Мао — то же самое: цитатник — «Шесть условий победы».
Сделали театральные институты: ГИТИС, при МХАТе училище, при Вахтанговском училище — всем им дали права институтов. Так же в республиках было. Все по системе, очень прочно. Программа художественного воспитания была утверждена одна и та же. Таким образом, уже с самого начала были запрограммированы серость, однообразие. Унылый пейзаж.
Вырывались иногда какие-то взрывы, потом их тут же… Возникали иногда интересные студии, их закрывали. Была студия Дикого — хороший очень артист, студия была у Симонова, студия была у Арбузова. Это старая форма: своя студия была даже у великого Шаляпина, и там учился Симонов. Студия Хмелева была…
Они немножко отличались, но довольно робко. Самая яркая, пожалуй, студия Дикого была, но потом его посадили, потом выпустили, и он сыграл Сталина. Он был прекрасный актер, хороший режиссер. Он был актер из МХАТа Второго, закрытого. Это один из блестящей плеяды артистов.
Станиславский был иконой и Немирович был иконой. Учение Станиславского превращалось в догму. Оно было канонизировано, как театр Брехта. То есть были очень сужены рамки и совершенно забыты были его заповеди: каждые пять лет переучиваться, все время развивать теорию сценического искусства, совершенствовать приемы театра, расширять их, использовать всю практику мирового театра, его тысячелетний опыт, который, как океан, безмерен, безбрежен. Это же древнейшее искусство, которое имеет столько направлений, столько традиций: возьмите японский театр, китайский театр, театр древних — любой театр — мистериальный театр, эпический театр, политический театр Брехта, пискатор и так далее. Театр арто. Комедия дель арте.
И все это было сведено к очень примитивному учебнику, основанному преимущественно только на психологической технике. Результаты получались разные, но, во всяком случае, резко упало мастерство актера. Ушли поиски формы, без которых искусство не может существовать. Искусство стало аморфно, бесформенно, однообразно, значит, перестали появляться произведения искусства. Потому что произведение искусства прежде всего отличает уникальность, неповторимость. И должна быть печать индивидуальности художника, а не клише, не тираж. В одном экземпляре настоящее искусство делается.
Но иногда были интересные спектакли. Самый ближайший ученик Станиславского Кедров сделал до войны хорошие два спектакля:
«Плоды просвещения» по новой методологии Станиславского — «метод физического действия». Все-таки Станиславский все время искал новые ходы.

Его студия была от МХАТа независимая. Станиславский годами не приходил в свой театр. И действительно вроде их считают антиподами — Мейерхольда и Станиславского. Но Станиславский умел ценить талант. И когда театр Мейерхольда закрыли, единственный человек, который не испугался и взял его к себе в студию работать, это был Станиславский. И он сказал горькую фразу:
— В МХАТ я устроить вас не могу, я там сам почти не бываю, а вот к себе в студию могу.
Хотя Станиславский ведь очень боялся… Недаром про него этот полуанекдот, а в общем, это правда: как только актеры начинали вести очень откровенные разговоры на репетиции, он немедленно их прекращал:
— Немедленно прекратите, иначе нас всех отвезут в ГУМ.
Он путал ГПУ с ГУМом — с универмагом. Он был так оторван, что путал эти понятия, он жил в особняке: театр — особняк. Его не трогали, но и он с ними не связывался.
Один раз Сталин вызвал Станиславского в ложу к себе. Станиславский с перепугу сказал:
— Алексеев, — свою настоящую фамилию. Тот на него посмотрел и сказал:
— Джугашвили.
Черный юмор.
После этого Сталин сказал:
— Скучно у вас.
Вся свита стала говорить:
— Как же вы ставите? Скучно… Вы подумайте.
Сталин подождал, потом сказал:
— В антракте.
И все стали: га-га-га! — и поздравлять (попугаи в своем кругу).
Умер Станиславский, и тут же был арестован Мейерхольд. И Мейерхольд сидел на Лубянке, в тюрьме, когда шел парад на Красной площади, и дети побежали через всю площадь вождям цветы дарить — это придумал Мейерхольд. Но никто об этом Сталину не сказал. Потому что если б кто-нибудь сказал, может, его бы и помиловали. Сталину это очень понравилось, он был растроган и смахнул слезу!
Масса легенд, рассказов, и до сих пор они остались, хотя Мейерхольд расстрелян, а театр разогнан. Многие спектакли его подробнейшим образом описаны, написаны книги. Есть очень хорошие. Даже на Западе — вот «Темный гений» Елагина — очень хорошая книга о Мейерхольде. Он живет в Америке, он был скрипачом в оркестре Вахтанговского театра, я был с ним очень хорошо знаком — Юрий Елагин (умер американским чиновником с орденом).
На Вахтанговский театр Мейерхольд имел не последнее влияние… Это влияние осталось на всех — целая плеяда его актеров осталась жива: Ильинский, Гарин, Бабанова — наиболее яркие — осталась тоска по остроте и умению владеть искусством мизансцены, гротеска, музыкальности — синтеза театрального. Он оказал огромное влияние на Эйзенштейна, а Эйзенштейн оказал большое влияние на развитие мирового кинематографа, также как Мейерхольд оказал безусловно большое влияние на развитие мирового театра, а не только русского театра. На меня они оказали влияние скорее интуитивно. Я же ни один спектакль не поставил, который ставил Мейерхольд или Станиславский. Хотя нет, один поставил — «Тартюф», но абсолютно непохожий на спектакль Станиславского. Абсолютно другой по всему: по эстетике, по игре, по манере — по всем данным. Он идет 30 лет — до сих пор.