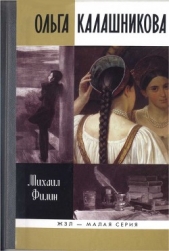Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина

Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина читать книгу онлайн
Пленительный образ княгини Марии Николаевны Волконской (урожденной Раевской; 1805–1863) — легендарной «русской женщины», дочери героя Наполеоновских войн и жены декабриста, последовавшей за осужденным супругом в Сибирь, — запечатлен в русской и зарубежной поэзии, прозе и мемуаристике, в живописи, драматургии и кино, в трудах историков, публицистов и литературоведов. Общественная мысль в течение полутора веков трактовала Волконскую преимущественно как «декабристку». В действительности же идеалы княгини имели мало общего с теорией и практикой «первенцев свободы»; Волконская избрала собственный путь, а «декабризм» был лишь неизбежным фоном ее удивительной биографии.
Вниманию читателей предлагается первое в отечественной историографии подробное жизнеописание М. Н. Волконской. По мнению автора книги М. Д. Филина, главным событием ее бурной, полной драматических и загадочных страниц жизни стало знакомство с Пушкиным, которое переросло во взаимную «утаённую любовь» — любовь на все отпущенные им годы. Следы этого чувства, в разлуке только окрепшего, обнаруживаются как в документах княгини, так и во многих произведениях поэта. Изучение пушкинских сочинений, черновиков и рисунков, а также иных текстов позволило автору сделать ряд оригинальных наблюдений и выводов, ранее не встречавшихся в пушкинистике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь его протеже Онегин вынырнул из клубов дорожной пыли и добрался-таки на почтовых до унаследованной деревни, где обустроился в «почтенном замке», мигом, толком и не познакомившись, рассорился с окрестными помещиками, но зато коротко сошелся с Владимиром Ленским.
Однако работа по «набиранию строф» в данную главу явно не спорилась. Заряд энергии, обретенный на старте, неумолимо таял. «Пишу спустя рукава», — признавался Пушкин приятелю (XIII, 73). О чем писать в этой песни — он по большому счету еще не знал, и поневоле поэту приходилось «забалтываться донельзя» (XIII, 75). «Развитие рассказа во второй главе, — размышляет один из наиболее глубоких отечественных пушкинистов, — наводит на странную мысль о том, что это повествование, имея композицию, не имеет структуры; автор, словно не утруждая себя строительством, раскладывает звенья повествования на плоскости; есть последовательность, но не просматривается система, не видно центра; нет события, организующего все вокруг себя. Действие и в самом деле как будто „еще не началось“, и повествование ограничивается представлением героев» [181].
Создается впечатление, что каждая строфа давалась Пушкину в том злосчастном октябре с превеликим трудом, прямо-таки через силу. Он пишет без плана, без вдохновения, «захлебывается желчью» (XIII, 80) — и развлекает себя за письменным столом разве что тем, что регулярно подсчитывает стихи в вымученных строфах. Наконец таковых строф наскреблось аж пятнадцать, затем автор прибавляет к ним («в столбик») стихи еще двух строф. В другой записи на полях вялого черновика романа он вычисляет количество стихов уже в восемнадцати строфах (XVII, 312).
Позднее пушкинисты определили, что такой «алгебре» поэт предавался в промежутке между 23 октября и 3 ноября 1823 года.
Мнится, что эта декада была самым серьезным испытанием для «Евгения Онегина» и его создателя: едва начавшийся роман того и гляди мог быть заброшен насовсем или отложен в долгий ящик. Поэт натурально выдыхался, нервничал — и, захлопывая опостылевшую черновую тетрадь с «большим стихотворением», бежал из дому, предпочитая быть удачливым «презид<ентом> попойки», посещать холостяцкие заведения, просто «пить, как Лот содомский» (XIII, 73).
Он словно обиделся, и крепко, на праздную, так немилосердно умолкшую Жизнь — и по мелочам мстил ей, изменял на стороне.
А Жизнь на самом деле уже не дремала — в те дни она незаметно трудилась над сюжетом, потихоньку сводила и расставляла по местам действующих лиц и, кроме того, посылала Пушкину обнадеживающие весточки: мол, терпи, надо ждать и надеяться, оглядись и смекни — вожделенные события приближаются и вот-вот с тобой, поэт-летописец, произойдет что-то необыкновенное…
Самое любопытное, что он фиксировал такие знаки — только вот не мог до поры расшифровать их.
Прошло немало десятилетий — и на пушкинском листе с многократными подсчетами натужных строф и стихов «Евгения Онегина» исследователи обнаружили автопортрет поэта, а также ряд женских портретов, и среди них — изображение Марии Раевской. На соседних страницах той же тетради были найдены и атрибутированы еще несколько ее графических портретов [182].
Так было установлено приблизительное время появления в Одессе нашей героини, которую сопровождали в поездке мать Софья Алексеевна и младшая сестра Софья. Принято считать, что Раевские приехали из Киева в город у моря на исходе октября или, в крайнем случае, 1–3 ноября. (Ноябрьская датировка представляется нам маловероятной.)
Ясно, что сразу после приезда девушка поспешила встретиться с поэтом и виделась с ним, быть может, не единожды. Нетрудно догадаться, что творилось тогда в душе Марии (которая, еще раз напомним читателю, недавно отвергла графа Густава Олизара). Искренне радовался свиданию с приятельницей и Пушкин. Как повзрослела и похорошела «та девочка» за истекшие годы и как неслыханно повезет ее избраннику!
Его рисунки стали следствием этой встречи (или встреч).
А затем произошли события, которые навсегда определили судьбу Марии Раевской, Пушкина — и оказавшегося в угрожающем положении романа в стихах «Евгений Онегин».
В пушкинской тетради с черновиками второй главы романа, на полях той самой страницы, где располагалась XVII строфа, внезапно появилась такая шифрованная запись:
«3 nov. 1823
ub.d. М. R.» (XVII, 236).
Некоторые ученые развертывают ее следующим образом:
«3 nov<embre> 1823
u<n> b<illet> d<e> M<arie> R<ayevscky>»,
то есть:
«3 ноября 1823
письмо от Марии Раевской» [183].
Рядом с этой заметкой, с виду вполне будничной, — пушкинские рисунки женских профилей, и среди них два изображения нашей героини (одно из них, по наблюдению М. Д. Беляева, зачеркнуто «как неудавшееся») [184].
А через четыре тетрадных листа, спустя всего несколько строф после записи 3 ноября (конкретнее — в строфе XXIV), появляется Татьяна Ларина (в одном из вариантов она была сначала названа Наташей).
«Явление Татьяны иррационально, — пишет В. С. Непомнящий. — Оно не подготовлено ничем — ни общими законами романного повествования (Ленский), ни сюжетной мотивировкой (Ольга), ни необходимостью в среде или фоне (Ларины). Другие персонажи должны были появиться, чтобы повествование состоялось, — Татьяна могла бы не появиться. Более того, по всей логике второй главы она не могла появиться. Ее возникновение не вызвано никакой повествовательной необходимостью — оно вызвано свободой, обрушившейся на автора вдруг. <…> Всеми доступными в рамках жанра средствами автор дает понять, что Татьяна свободно явлена ему. Явление это окружено тайной…» [185]
Это — тайна очередного пушкинского «странного сближения».
Связь между каким-то письмом Марии Раевской, которое оказалось в руках у Пушкина 3 ноября 1823 года, и тотчас же воспоследовавшим (можно сказать — эхообразным) «иррациональным явлением» Татьяны Лариной во второй главе «Евгения Онегина» представляется нам несомненной. Доказательствами тому будут, как увидим, вся дальнейшая история «утаённой любви» и история пушкинского романа в стихах.
Итак, в знаменательный ноябрьский день Пушкин получил от Жизни долгожданную подсказку, таинственный девичий «билет» — и его «Евгений Онегин» сразу ожил, вновь обрел некую внутреннюю энергию и двинулся, набирая ход, вперед. Спустя месяц многострадальная глава была завершена, и 1 декабря поэт писал о романе А. И. Тургеневу: «Две песни уже готовы» (XIII, 80). А ночью 8 декабря Пушкин ставит дату под XXXIX строфой — первоначально считавшейся в этой песни заключительной (VI, 299).
Как выяснилось впоследствии, вторая глава «Евгения Онегина» оказалась самой короткой главой романа. Поэту явно хотелось побыстрее «отделаться» от песни, принесшей ему столько душевных хлопот, — что он и совершил, выведя почти что скопом всех необходимых для задуманного действия персонажей на сцену, поочередно представив их и предуготовив читателя к грядущей интриге. Персонажи в темпе продефилировали по стихам и строфам, практически не замечая друг друга и не вступая в общение, — и тут перед публикой вместо ожидаемых ею увлекательных коллизий явилась и расшаркалась авторская точка.