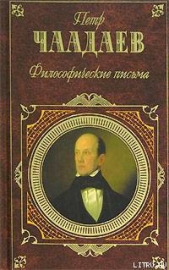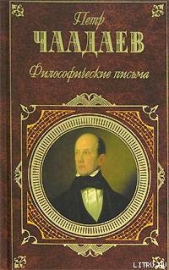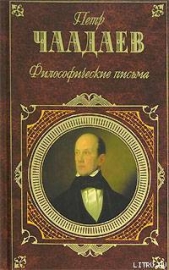Чаадаев
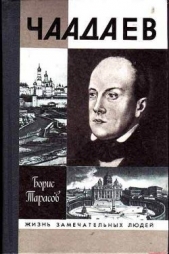
Чаадаев читать книгу онлайн
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пока составлялись планы на будущее, здоровье Чаадаева в очередной раз ухудшилось. Лекарства не шли впрок, сухоядение и строгий режим усилили запоры. В довершение всего сильно простудился и захворал слуга Иван Яковлевич. Наконец, лечение сывороткой с фиалковым сиропом (это средство он рекомендует и брату) вроде бы помогло, вылечился от недомогания и слуга. Теперь можно отправиться в Швейцарию, для чего Петр специально приобретает коляску. Доктор, объясняет он Михаилу причину новой покупки, рекомендовал ему ехать «как можно прохладнее», то есть спокойно ночевать каждые сутки; в противном случае придется опять прибегнуть к «вредным убийственным слабительным». Давая брату адрес господина Берга, чиновника русского посольства в Берне, Петр снова настоятельно просит его: «Сделай милость, не задержи меня деньгами в Швейцарии… выезжаю отсюда с небольшими деньгами, но надеюсь, что пришлешь подмогу вовремя».
3
По приезде во Францию Чаадаев намеревался посетить Швейцарию в конце весны, но финансовые и иные обстоятельства задержали его отъезд почти до середины августа. Еще за сутки до швейцарской границы он мог увидеть из окон своей коляски один из самых высоких альпийских хребтов, словно сгибающихся под тяжестью снегов. На более близком расстояний заметно, как ледяная белизна внезапно обрывается чернотою гранитных пород, а чуть ниже возвышаются на холмах кудрявые кустарники, открываются зеленые пропасти горных долин. В этой картине в сжатом виде отражается своеобразие и богатство природы Швейцарии, где в тесных границах соединились, казалось бы, несовместимые красоты.
Благовонная зелень, обрамляющая прозрачные водоемы, приятно напоминала Чаадаеву путешествие по Англии. Более же всего его поражала не исчезающая из поля зрения грандиозная панорама гор, иной раз причудливо отражающаяся вместе с деревьями в озерной глади. Монументальная красота гор напоминала ему готические храмы и, подобно царственному величию английского дуба или неукротимому гневу бездонного моря, остро запечатлевалась в его сознании, подспудно формируя в нем «природные» доказательства бытия божия, что и отразится в последующих размышлениях. Удивляло его и сочетание дикого великолепия природы и обильных пажитей, гигантских елей и плодовых деревьев.
Душистые волны от свежего сена и ароматных трав, чистейший горный воздух, мерный шум каскадов, звон погремушек пасущихся стад — все, казалось бы, должно было вносить умиротворение в душу меланхолического путешественника, успокаивать неврастенические приступы, развеивать упрямую ипохондрию.
Но на деле все вышло иначе. В Берне, при русской дипломатической миссии, Чаадаев нашел своего дальнего родственника, князя Ф. А. Щербатова. Старшая сестра последнего вышла замуж за чиновника русского посольства Д. Н. Свербеева (он познакомился с Чаадаевым в Москве перед самым началом Отечественной войны, встречался с ним, как уже говорилось, в Париже, а в Швейцарии продолжил с ним формальные отношения). В то время, вспоминал Свербеев много позже в «Записках», Чаадаев еще «не имел за собою никакого литературного авторитета, но бог знает почему и тогда уже, после своей семеновской катастрофы, налагал своим присутствием каждому какое-то к ceбe уважение. Все перед ним как будто преклонялись и как бы сговаривались извинять в нем странности его обращения. Люди попроще ему удивлялись и старались даже подражать его неуловимым особенностям. Мне долго было непонятно, чем он мог надувать всех без исключения, и я решил, что влияние его на окружающих происходило от красивой его фигуры, поневоле внушавшей уважение».
Характерное для многих современников сведение сложности чаадаевской натуры к «красивой фигуре» сменится у Свербеева, при более тесном общении с ним в московских салонах 30-х и 40-х годов, более объективными оценками. А пока что чиновник посольства знакомил нового русского путешественника с иностранцами, которых сразу же раздражили странности Чаадаева. Среди этих странностей мемуарист отмечает заданность позы, загадочность молчания, отказ от предлагаемых угощений. За десертом молчаливый собеседник требовал себе бутылку лучшего шампанского, выпивал из нее одну или две рюмки и торжественно удалялся. «Мы, конечно, совестились пользоваться начатой бутылкой».
Непонятной причудой казалась для окружающих в Берне и манера Чаадаева возить с собой повсюду камердинера Ивана Яковлевича. По впечатлению Свербеева, слуга был настоящим двойником своего барина, «одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, все им надеваемое стоило дороже. Петр Яковлевич, показывая свои часы, купленные в Женеве, приказывал Ивану Яковлевичу принести свои, и действительно выходило, что часы Ивана были вдвое лучше часов Петра…». Рассчитанное на внешний эффект стремление Чаадаева повсюду демонстрировать своего двойника недешево обходилось ему, и он был не совсем неправ, когда представлял брату своего слугу как причину сверхмерной траты денег за границей, не раскрывая, однако, содержания этой причины.
Переходя от иностранцев в круг соотечественников, он давал волю гнетущему его недовольству и разражался суровыми филиппиками. Русские в Берне по вечерам собирались обычно «на чай» у Свербеева, где мрачный и элегантный путешественник своими дерзкими речами наводил ужас на начальника миссии Криднера. Чаадаев, рассказывал хозяин об этих встречах, «обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный такими преувеличениями, я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. «Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции». Говоря это, Чаадаев вышел из себя и раздражился донельзя. Таким иногда выказывался он до самой смерти, и изредка случалось и ему выходить из пределов приличия… Можете себе представить, что при подобных взрывах негодования, выраженных умным и просвещенным Чаадаевым, говорилось другими моими посетителями и до чего доходили паши крики и ссоры».
Самовозгорание в обвинениях, нарочитый характер и взволнованный тон которых проистекали из глубин уязвленного и неудовлетворенного честолюбия, Чаадаев охлаждал прогулками по гладко вымощенным и ярко освещенным ночью, прямым и широким улицам Берна, где лишь изредка слышен шум кареты среди одинаковых трехэтажных домов из белого камня н где под красивыми аркадами пешеход может найти укрытие от ненастной погоды. Серые туманные утра, сизые тучи, дождевые вьюги, прибивающие к земле поблекшую растительность, возвращали его к тоскливому настроению, к печальным думам, к книгам, которые он не переставал покупать. Монетный двор, арсенал, публичные хлебные амбары, ботанические сады, музеи естественной истории — все эти достопримечательности уже давно им осмотрены. И знакомство с республиканскими порядками кантона совершилось. Оставалась необследованной богатая библиотека, где, кроме большого собрания разного рода сочинений и рукописей, хранилась коллекция окаменелостей и имелся орнитологический кабинет.
Пребывая в Берне, Чаадаев несколько раз съездил в Женеву — родину Руссо. Здесь, возможно, он посидел на берегу знаменитого Женевского озера, которое живший неподалеку, в Фернее, Вольтер называл «моим озером», и полюбовался «королем гор», снежным Монбланом. Поднимался и по горным кручам, где почувствовал мучительно притягательное желание броситься в манящее жерло пропасти. Позднее, встретив в книге Лапласа «Философский опыт о вероятностях» упоминание о сходном желании, он отметил на полях: «Я испытал это в Женеве». Таково хронологически первое свидетельство о смутно бродивших в его сознании мыслях о самоубийстве.
В Берне Петра ожидали две тысячи рублей, присланные Михаилом из собственных сбережений, и два его послания. Разорен, болен, замучен, писал тот, выведенный из терпения постоянно поторапливающими его просьбами брата о деньгах. Прошло чуть более года с тех пор, как Михаил начал в Хрипунове активную хозяйственную деятельность, не получая, однако, ни морального удовлетворения, ни материальных результатов. «Брат твой, — напишет Петру через несколько месяцев Якушкин, — может, эти годы не получает доходов, но это общая участь почти всех российских помещиков. Все так дешево, как я думаю никогда в России (по сравнению времен) не бывало, нигде почти мужики оброков не выплачивают…» Жалобы же на обнищание Якушкин относит к свойственным Михаилу «нравственным расстройствам», ибо трудно его с Петром, имеющих «долгу тысяч сто, а имения почти на миллион», назвать разоренными людьми. Тем не менее хрипуновский помещик вынужден в это время хлопотать о сборе справок и свидетельств для сдачи части своего владения под залог.