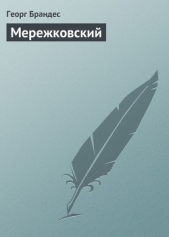Мережковский

Мережковский читать книгу онлайн
Творчество великого русского писателя и мыслителя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) является яркой страницей в мировой культуре XX столетия. В советский период его книги были недоступны для отечественного читателя. «Возвращение» Мережковского на родину совпало с драматическими процессами новейшей российской истории, понять сущность которых помогают произведения писателя, обладавшего удивительным даром исторического провидения. Книга Ю. В. Зобнина восстанавливает историю этой необыкновенной жизни по многочисленным документальным и художественным свидетельствам, противопоставляя многочисленным мифам, возникшим вокруг фигуры писателя, историческую фактологию. В книге использованы архивные материалы, малоизвестные издания, а также периодика серебряного века и русского зарубежья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Плещеев был первым из литературного окружения Мережковского, с кем тот познакомил молодую жену по возвращении из Тифлиса. В ответ Алексей Николаевич посетил их «семейное гнездышко» на Верейской улице, очаровав двадцатилетнюю Гиппиус, которую Мережковский везде представлял как «поэтессу», тем, что принес с собой стихотворения из редакторского портфеля «Северного вестника» (как и в «Отечественных записках», Плещеев заведовал в «Вестнике» отделом поэзии) – на ее «суд строгий».
– Это, – пояснял Алексей Николаевич, – настоящие поэты. Льдов – молодой, но уже печатался. Аполлон Коринфский… А это – не знаю, всякие, в редакцию присланы…
Гиппиус с восторгом согласилась ему «помочь», и сразу же начался горячий спор: стихотворение Льдова —
требовательной Зинаиде Николаевне не понравились. Мережковский возразил, что Льдов настоящий поэт, что у него есть «дивные стихи». В доказательство он тут же процитировал на память:
Слушая перепалку супругов, Плещеев улыбался в усы: добродушный и снисходительный к литературной юности, он был не против и «бокалов-ландышей». Он был необыкновенно добрый человек, несмотря на все лихие каторжные и солдатские десятилетия сохранивший детскую веру в чистоту и благородство человеческой натуры, и всегда был склонен преувеличить дарование очередного поэта-дебютанта. «Он – большой, несколько грузный старик, с гладкими, довольно густыми волосами, желто-белыми (проседь блондина), и великолепной, совсем белой бородой, которая нежно стелется по жилету, – передает свое первое впечатление от Плещеева Гиппиус. – Правильные, слегка расплывшиеся черты, породистый нос и как будто суровые брови… но в голубоватых глазах – такая русская мягкость, особая, русская, до рассыпанности, доброта и детскость, что и брови кажутся суровыми – „нарочно“».
Эти дивные плещеевские стихи, которые уже больше ста лет «щебечут» в детских садах и школах русские детишки, как нельзя лучше подходят к облику самого Алексея Николаевича.
С этого момента началась, по словам Гиппиус, их «усиленная дружба» с Плещеевым. Мережковские бывали у него запросто (Плещеевы жили в двух шагах от дома Мурузи, напротив Спасо-Преображенского собора). Плещеев также приходил к ним «обедать или так», чтобы «поболтать о стихах и о чем придется». Эти непринужденные беседы были порою очень интересны: старый поэт являлся настоящим «свидетелем истории». Гиппиус вспоминает, как однажды он рассказывал о чтении ему Некрасовым только что написанного «Рыцаря на час», – Николай Алексеевич читал так, что, когда дошел до обращения к матери:
и чтец, и слушатель плакали. «Плещеев рассказывал об этом очень просто, – пишет Гиппиус, – но когда рассказывал, – было понятно, что и нельзя иначе, и что сам ‹ты› в ту минуту, верно, так же бы плакал».
Финал плещеевской жизни необычен. Словно вознамерившись наглядно опровергнуть циническую сентенцию о неизбежном крушении литературных донкихотов, подобных Плещееву, судьба вместо пресловутого «чердака», где, по всему, и должен был завершиться путь «бедного поэта», – уготовила ему роскошные апартаменты парижского отеля «Mirabeau», ничуть не уступающие суворинскому салону с венецианскими зеркалами и сверкающими стеклянными подвесками в гостинице на берегу Grand Canal. Плещеев неожиданно получил огромное наследство и, обосновавшись в Париже, звал туда своих молодых друзей: «…Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май – лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу…» Плещеев «почтеннейше просил» принять от него «аванс» на проезд – тысячу рублей.
Разумеется, Мережковские не могли отказаться от такого приглашения и, вместо того чтобы, как планировали, вернуться в начале мая в Петербург, оказались во французской столице, только привыкающей к совсем еще новенькой Эйфелевой башне, воздвигнутой к Всемирной выставке 1889 года.
«Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною – скромная золотая вывеска „Worth“, – вспоминает Гиппиус. – Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позвякивают бубенчики фиакров.
– Правда, хорошо? – спрашивали нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж. – А как вас папа ждал!»
Алексей Николаевич, хотя и похудевший от начинавшейся уже болезни, мало изменился с петербургской поры. Огромное богатство, вдруг свалившееся на него «с неба», он принял с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади.
– Что мне это богатство, – говорил он. – Вот только радость, что детей я смог обеспечить, ну и сам немножко вздохнул… перед смертью.
Он гулял с Мережковским и Гиппиус по бульварам, водил в кафе «Ambassadeur», где блистала Иветт Жильбер, и заказывал каждый раз роскошный обед. Однажды, слегка разомлев, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в assommoir! [11]» – и тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:
– Тьфу ты, я хотел – в ascenseur! [12] А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в ассомуар!..
Дни, проведенные с Плещеевым в Париже, странно контрастировали с фантастическим «бегством наперегонки» по Италии за Мефистофелем-Сувориным и Фаустом-Чеховым. В этом наглядном контрасте для Мережковского, еще переживающего суворинские соблазны, был, несомненно, большой, возможно, – провиденциальный смысл. Глядя на спокойный и ясный плещеевский «закат», слушая неторопливую беседу старика, неколебимо уверенного в правоте своего безоблачного гуманистического, «детского», интеллигентского идеализма, Мережковский получал противоядие от взвинченного, насмешливого и разрушительного напора нравственного и эстетического нигилизма, которым заражал Суворин, «глубоко убежденный в порочности всех». Вновь, как в гимназические годы, перед Мережковским, стоящим на самом пороге грядущего серебряного века, отрицательный «тезис», ведущий к декадентской «переоценке ценностей», осложнялся не менее сильным «антитезисом».