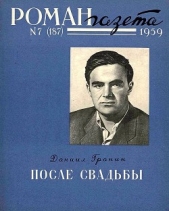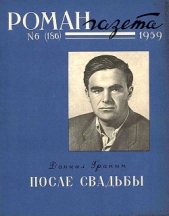Мои воспоминания. Книга вторая

Мои воспоминания. Книга вторая читать книгу онлайн
Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…
Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.
В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.
Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука». И, наконец, в 1990 году «Наука» переиздала этот двухтомник, восстановив купюры, сделанные в 1980 году.
Здесь печатается полный текст, немного отредактированный для большей легкости чтения (в частности, иноязычные слова переведены прямо в тексте) и с соблюдением всех норм современной пунктуации и орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В сущности, и к Сереже следовало одному мюнхенскому художественному деятелю обратиться с тем предложением, с которым он (вероятно, по совету Р. Мутера) обратился ко мне. (К сожалению, я запамятовал имя этого уважаемого деятеля и за отсутствием при мне моего архива, оставшегося в Петербурге, мне трудно снова это имя вспомнить. Это была, во всяком случае, довольно видная фигура в то время; его фамилия звучала вроде Паули, и как будто он состоял чем-то вроде эксперта в художественном предприятии Кассирера в Берлине.) Однако о Сергее Дягилеве этот деятель не имел никакого понятия. Оглядываясь теперь на это далекое прошлое, я удивляюсь, почему я сам не попробовал переложить эту обузу со своих плечей на плечи моего друга — однако в те дни я еще питал относительно себя и своих возможностей известные иллюзии и, напротив, собирался в дальнейшем играть какую-то активную роль, вовсе не ограничиваясь ролью какого-то закулисного суфлера-вдохновителя. Обуза же заключалась в том, чтобы собрать группу русских передовых художников, для которых выставочная комиссия «Гласс-паласта» предоставила целое отделение.
Но кого было приглашать? Мы сами, наш кружок друзей в собственных наших глазах представлялись слишком еще незрелыми и незначительными, и сразу, не проверив себя в родной обстановке, выступать, да еще за границей на международном состязании, казалось неблагоразумным. Напротив, все мы, уже если кого почитали среди русских художников, так это тех самых участников Передвижных выставок, которые выдвинулись за последние десять лет и которые в своем творчестве, не объявляя никаких лозунгов, реализовали на деле многое и весьма существенное из того, что мерещилось нам в качестве идеалов современного искусства. Самые эти идеалы отчасти выросли на тех впечатлениях, которые мы из года в год получали не столько от маститых столпов этих выставок, сколько от художников более молодых, почти наших сверстников. Нам они нравились тем, что в их творчестве уже не было поощряемого Стасовым «направленчества» или какого-либо литературного привкуса. Напротив, своих старших товарищей они огорчали именно подобной, некоторой как бы «изменой прежней программе». Такими нашими любимцами были Левитан, Серов, К. Коровин, Нестеров, Аполлинарий Васнецов, а также несколько менее видных художников, как-то: Аладжалов, Досекин, Дубовской, Переплетчиков и т. д. Для нас, особенно для меня, не было сомнений, что если бы собрать их всех воедино, то получилось бы удивительно внушительное целое, а за границами России их художество явилось бы чем-то весьма поразительным и неожиданным.
Но вот беда была в том, что никто из нас тогда лично не был знаком с кем-либо из перечисленных только что художников — наших любимцев. При этом какая-то преувеличенная скромность в одинаковой степени почти всем нам (кроме Сережи Дягилева) присущая, мешала тому, чтобы нам куда-то и к кому-то лезть. Да и наша художественная самооценка, несмотря на то, что все члены нашего кружка были уже вполне готовыми людьми (от двадцати трех до двадцати шести лет, Баксту было даже чуть ли не двадцать восемь), эта самооценка не позволяла притязать на то, чтобы с нами всерьез считались и чтобы нам, скажем, выступать в одном ряду с величинами вполне признанными. И вот поручение доктора Паули(?) давало нам предлог к тому, чтобы завязать желательные знакомства без того, чтобы это носило характер какого-то напрашивания. То же отвращение от «пролезания вперед» не позволило мне действовать через Репина, который так дружественно тогда ко мне относился. Надо, впрочем, заметить, что в этот период Репин уже плохо ладил со своими товарищами-передвижниками. Наконец, хоть я в первую голову именно его лично и пригласил участвовать на Мюнхенской выставке, однако получил от него отказ в виде одной из свойственных ему деликатных отговорок. Что же касается до художников-участников акварельных выставок, то приглашения их казались мне для данной цели нежелательными. Я даже скрывал от своего брата Альбера самую затею, так как считал совершенно невозможным сочетать в одно целое Левитанов и Серовых с разными Каразиными, Писемскими, Александровскими и т. п. Самого же Альбера я бы с охотой включил, но именно он, при его экспансивности и товарищеских чувствах и при полном отсутствии критического чувства, непременно потащил бы за собой и всех остальных, вовсе нежелательных.
Поэтому, дождавшись прибытия в Петербург очередной Передвижной выставки и набравшись храбрости, я и отправился на нее до ее открытия в зале Общества поощрения художеств с целью знакомиться. Мне сразу посчастливилось войти в контакт с В. В. Переплетчиковым, который очень сочувственно отнесся к мюнхенскому предложению, а через него я затем познакомился и со всеми остальными, на кого рассчитывал. Через день или два я уже смог своих новых знакомых собрать у себя и образовать род учредительного комитета, на котором большинством голосов было постановлено на мюнхенской выставке участвовать. Главное, казалось мне, было сделано, и я мог написать в Мюнхен, что русские художники будут. Но тут и сказалась моя неопытность. Кое-кто из постановивших участвовать, действительно, послал по картине или по две, но многие в последнюю минуту отлынули. Такие предприятия не устраиваются сами собой, без непрестанного напоминания, понукания устроителя, а у меня именно ни темперамента, ни выдержки и не было. Однако ни для меня, ни для всего нашего кружка случайно таким образом возникшее сближение с москвичами не прошло даром. С этого момента мы завязываем личные отношения с ними, что затем сказывается на нашей дальнейшей деятельности и отчасти на нашем творчестве. Да, пожалуй, и сами эти близкие к нам по духу художники, благодаря знакомству с нами, лучше осознали свое положение в художественном мире и как бы свое назначение, «миссию».
Попытаюсь здесь же передать те впечатления, которые я вынес из этого нового знакомства. Признаюсь, что больше всего мне понравился Переплетчиков, меньше всего — Серов. Да не осудят меня теперь за это странное предпочтение: Переплетчиков всей своей ласковой манерой, своей не сходящей с уст медовой улыбкой, вкрадчивым голосом и полной готовностью послужить сразу располагал к себе. В те времена я еще не был достаточно знаком со всей такой повадкой, и она меня покорила. Мне нравился Переплетчиков и как художник. Его скромные, несколько однообразные картины и рисунки (появился целый альбом последних, и он мне его преподнес) незатейливо, но очень точно передавали русскую природу, ее тихую поэзию. Переплетчиков был вообще милым добрым человеком, а его склонность к некоторой дипломатии вовсе не означала непременно какую-то коварную двуличность. Если же моя дружба с ним, начавшаяся тогда в 1896 году, не протянулась затем и на пять лет, то к этому были особые причины, из которых одна из главных заключалась в том, что к нему без всякого уважения относились мои друзья (главным образом Сережа Дягилев и Серов) и что мы очень редко встречались. (Недружелюбное отношение к Переплетчикову Серова, очень уж строгого к людям, выразилось, между прочим, как в той злой и меткой карикатуре, которую сделал Валентин Александрович и которую он подарил мне, так и в том прозвище, которое он ему дал и под которым подразумевалась его организационная сноровка и его слишком большая практичность. Серов за спиной не иначе называл своего собрата, как Переплетчиков-Артельщиков. С виду Василий Васильевич был выше среднего роста, довольно неуклюжий, с некой кривизной в чертах лица, он слегка хромал на одну ногу.)
Серов, к искусству которого у меня с гимназических лет было настоящее поклонение, представлял как личность полный контраст именно с Переплетчиковым. До момента, когда он начинал кого-либо любить и уважать, Валентин Александрович вполне заслуживал эпитета сумрачного буки, а часто он мог сойти и просто за невоспитанного, невежливого человека. Вообще неразговорчивый, он в обществе новых людей уходил в какое-то угрюмое, почти озлобленное молчание, едва отвечая на вопросы и лишь изредка что-либо процеживая сквозь зубы, сжимавшие медленно курившуюся сигару. При этом понять вполне его мнения и суждения могли лишь люди, хорошо его знавшие и привыкшие к его манере (да и к самому образу его мыслей), непосвященных же они скорее озадачивали. К мюнхенскому предложению он отнесся без всякого сочувствия и даже с иронией. Зато я отлично помню, как в то сборище москвичей у меня за чаем (в целом отличавшееся веселым благодушием) он внес довольно-таки режущий диссонанс. Тогда мне показалось, что с Серовым мне никак не сойтись, и это огорчало меня. На самом же деле уже через два года его отношение ко мне стало меняться, а в течение лета 1899 года между нами завязалась самая тесная дружба. При этом я особенно ценил ее именно потому, что она далась не сразу, а что пришлось ее заслужить.