Признаюсь: я жил. Воспоминания
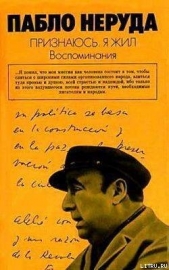
Признаюсь: я жил. Воспоминания читать книгу онлайн
Эта книга воспоминаний Пабло Неруды, выдающегося чилийского поэта-публициста, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии по литературе.
Книга завершена Нерудой в последние месяцы его жизни, в Исла-Негра. Уже прикованный к постели неизлечимой болезнью, он, по рассказам очевидцев, диктовал эту книгу секретарю, просматривая затем записи и внося необходимые исправления. Работа над книгой не прекращалась почти до самой смерти Неруды: последние страницы, посвященные Сальвадору Альенде, продиктованы уже в середине октября 1973 года, когда автору уже оставалось несколько дней жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я почти закончил первую книгу «Местожительство – Земля». Но работа продвигалась медленно. Я был отрезан от привычного мира и известий оттуда не получал, а в мир, который окружал меня, никак не мог по-настоящему войти.
Естественными эпизодами книги стало то, из чего складывалась моя, словно подвешенная в пустоте, жизнь: книга писалась «гораздо больше кровью, чем чернилами». Но стиль у меня оттачивался, и не умолкавшая, почти навязчивая грусть дала книге крылья. Правда жизни и манера письма (а именно из этой муки печется хлеб поэзии) наполнили горечью мою книгу, и эта горечь начинала разъедать и меня самого. Потому что стиль – то, как человек пишет – это не только он сам, но и то, что его окружает, и если эта атмосфера не войдет в стихи, то стихи останутся мертвыми, мертвыми потому, что воздух жизни не наполнит легкие поэзии.
Никогда в жизни я не читал так много и с таким удовольствием, как тогда, в окрестностях Коломбо, где я долго прожил в одиночестве. Время от времени я перечитывал Рембо, Кеведо, Пруста. Книга «По направлению к Свану» заставила меня снова пережить треволнения, любовь и ревность, какие я испытал подростком. И я понял, что музыкальная фраза из сонаты Вентейля, которую Пруст называл «воздушной и благоуханной», не только описана изысканнейшим образом, но в ней заключена отчаянная страсть.
Мне тогда в моем одиночестве надо было найти эту музыку и услышать ее. С помощью моего друга, музыканта и музыковеда, мы пустились в исследование и обнаружили, что Вентейль Пруста был составлен из Шуберта, Вагнера, Сен-Санса, Форе, [62] д'Энди [63] и Сезара Франка. [64] Мое музыкальное образование было позорно скверным, и я не знал почти никого из них. А то, что они создали, было для меня черным ящиком. Мое ухо воспринимало лишь ярко выраженную мелодию, да и то с трудом.
В конце концов, преуспев в изысканиях скорее литературного свойства, чем музыкального, я достал альбом из трех пластинок с сопатой для скрипки и фортепиано Сезара Франка. Без сомнения, там была фраза Вентейля. Там, нечего и сомневаться.
Мой интерес был чисто литературным. Пруст, величайший поэт-реалист, в своей критической хронике агонизирующего общества, которое он любил и ненавидел, с огромным удовольствием говорит о различных произведениях искусства – о картинах и соборах, об актрисах и книгах. И хотя его проницательность озаряет все, чего бы он ни коснулся, он особо отмечает очарование этой сонаты и ее все время возрождающейся темы, он пишет об этом так проникновенно, как ни о чем другом. Его слова заставили меня вспомнить собственную жизнь, прочувствовать ощущения, затерявшиеся во мне, вновь пережить то, чего, я считал, во мне уже нет. В этой музыкальной теме мне хотелось видеть магию литературного дарования Пруста, и я унесся или дал себя унести на крыльях музыки.
Тема начинается значительно, словно бы возникая из тени, а потом срывается на хрип, затягивая, осложняя собственную агонию. Она возводит свою тоску подобно готическому зданию, и волюты, [65] увлекаемые ритмом, бессчетно повторяют ее, вознося на одном дыхании, словно единую, пущенную вверх стрелу.
Рожденная в скорби фраза идет к триумфальному разрешению, но и взлетев вверх, она не отказывается от породившего ее, растревоженного тоскою начала. Она взвивается патетической спиралью, а хмурая партия рояля аккомпанирует умиранию и новому возрождению темы. Мрачноватая камерность фортепьяно оттеняет рождающуюся змейку мелодии, пока любовь и скорбь не сольются в победе, равной агонии.
Я ничуть не сомневался, что это была та самая тема, та самая соната.
Темень резко, как удар кулака, падала на мой дом, затерявшийся под кокосовыми пальмами Велаваты, но каждую ночь со мною была соната, она уводила меня и обволакивала, делила со мной свою неизбывную тоску, свою всепобеждающую грусть.
Критики, вдоль и поперек переворошившие мои работы, по сей день не заметили этого скрытого влияния, в котором я сейчас сознаюсь, – именно в Велавате я написал большую часть «Местожительство – Земля». И хотя моя поэзия и не «благоуханная», и не «воздушная», а печально земная, мне сдается все-таки, что непрестанно повторяющиеся скорбные мотивы этих стихов внутренне связаны с поэтическим языком музыки, которая в те дни была неразлучна со мной.
Несколько лот спустя, возвратившись в Чили, я на одном из вечеров как-то встретил сразу трех самых крупных молодых представителей чилийской музыки. Это было, по-моему, в 1932 году, в доме Марты Брунет.
В стороне от всех Клаудио Аррау разговаривал с Доминго Санта-Крус и Армандо Карвахалем. Я подошел к ним, они едва взглянули на меня и невозмутимо продолжали беседовать о музыке и музыкантах. Мне захотелось блеснуть перед ними, и я заговорил о той сонате – единственном, что я знал.
Они рассеянно посмотрели на меня и ответили свысока: – Сезар Франк? Почему именно Сезар Франк? Верди тебе надо знать, вот кого.
И опять занялись своим, похоронив меня под бременем невежества, откуда я и по сей день не выбрался.
Сингапур
Одиночество мое в Коломбо было не просто тягостным, оно было подобно летаргическому сну. Друзей – раз-два и обчелся, и все они с той же улочки, где жил я. И подружки – всех цветов кожи, – которые побывали на моей раскладной кровати, не оставив по себе иной памяти, кроме мимолетной чувственной вспышки. Тело мое было словно одинокий костер, день и ночь не затухавший на тропическом побережье. Довольно часто приходила моя приятельница Пати со своими подружками, смуглыми, золотокожими девушками, в жилах которых текла кровь буров, англичан, дравидов. Они спали со мной между прочим, это для них было вроде спорта.
Одна из них поведала мне о том, что посещала chummery. [66] Так назывались бунгало, в которых молодые англичане – мелкие служащие из контор и лавок – жили общежитием, чтобы сэкономить на квартирной плате и питании. Девушка рассказала, как о чем-то совершенно обычном – в этом не было ни тени цинизма, – что однажды она переспала сразу с четырнадцатью.
– Как же так? – спросил я ее.
– Была вечеринка, я оказалась там одна. Потом завели граммофон, и я танцевала со всеми по очереди – потанцуем немножко, а потом завернем в спальню. И все остались довольны.
Она не была проституткой. Просто типичным колониальным товаром, неискушенным и щедрым плодом этого миропорядка. Ее рассказ меня поразил, но у меня никогда не было к ней иного чувства, кроме симпатии.
Мое одинокое, стоявшее на отшибе бунгало было далеко от всякой городской цивилизации. Помню, когда я его снимал, я все старался понять, где там отхожее место. Оказалось, очень далеко от душа, в самой глубине строения.
Я с любопытством обследовал его. Деревянный ящик с дыркой посредине очень походил на то самодельное сооружение, которое запомнилось мне с детства. Но у нас в деревне такие ящики ставили над глубокой ямой или над ручьем. Здесь же под круглым отверстием стояло всего-навсего жестяное ведро.
Каждый день к утру ведро снова было чистым, и я не понимал, куда девалось его содержимое. Однажды утром я поднялся раньше обычного. И был поражен тем, что увидел.
В дом вошла женщина – мне показалось, будто ступает изящное темное изваяние, – женщина, красивее которой я до сих пор на Цейлоне не видел: она была тамилкой, из касты неприкасаемых. В красном с золотом сари из грубой ткани. На щиколотках босых ног – тяжелые браслеты. В крыльях носа сверкали красные камешки. Должно быть, это было обычное стекло, но на ней оно казалось рубинами.
Величавым шагом она направилась к уборной, даже не взглянув на меня. Так, словно меня вовсе не было, и, водрузив на голову омерзительный сосуд, пошла прочь поступью богини.






















