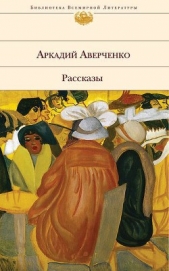Влюбленный

Влюбленный читать книгу онлайн
Взлет кинокарьеры Родиона Нахапетова пришелся на расцвет советского кинематографа — семидесятые годы. В его книге — живые портреты Иннокентия Смоктуновского, Василия Шукшина, Никиты Михалкова, Марка Донского, Марины Нееловой, описания `внутренней кухни` звездного киномира, творческие поиски и душевные метания. Значительная часть воспоминаний — подкупающий безграничной искренностью рассказ русского актера и режиссера, пытающегося найти свое место в Мекке мирового кино — Голливуде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда Донской бывал груб. Так было во время одной из сцен, когда я оговорился и прервал съемку.
— Кто сказал «стоп»?! — заорал Донской.
— Я сказал. Я забыл текст, — объяснил я.
— Забыл текст — продолжай махать руками. Потом озвучим!
— Как это? Я не марионетка, Марк Семенович.
— Не марионетка? Так слушай, что тебе говорят! Мне важно показать Ленина возбужденным.
Я возмутился:
— Я не буду махать руками!
Сказав это, я хлопнул дверью и ушел со съемок. Ирина Борисовна побежала следом:
— Не обижайся на Донского. Он знает, что делает.
— Я тоже знаю.
— Да, но только то, что относится к твоей роли. А Донской режиссер. Понимаешь разницу? Когда он снимал «Детство», роль бабушки играла Массалитинова.
— Знаю…
— Она была великая актриса. На сцене. В кино же снималась впервые. Никакого уважения к кинокамере. Так вот, Донской ей говорит: «Когда вы произносите монолог, не уходите дальше этой линии». А она отвечает: «Не указывай мне, милок, как играть. Я уж пятьдесят лет на сцене!» И стала играть, забыв о разметке на полу. Донской промолчал. А потом пригласил ее посмотреть отснятый материал. Массалитинова увидела на экране только свое плечо. Вся ее великолепная игра осталась за кадром. «А где ж я? — удивилась актриса. — Нельзя экран подвинуть? Я во — он там, за печкой…»
Ирина Борисовна была чудесный человек и умела сглаживать углы. К концу второго года работы я стал лучше понимать Донского, меньше ершился и больше слушал.
Продолжая рассказ о творческих приемах Донского, должен особо отметить его заботу о переходах между сценами.
— Я уверен, что Райзману скучно сидеть в монтажной, — рассуждал Донской. — Его режиссура сводится к простому сюжетному изложению. Форма его не интересует. Закончилась одна сцена, начинается другая. Он склеивает кадры, но, помимо этого, не извлекает ничего. Он актерский режиссер…
В моем понимании игра артистов у Райзмана была на голову выше, чем у Донского. Но что‑то в его рассуждениях показалось мне интересным.
— Сравни сам, — продолжал Донской. — У меня в «Фоме Гордееве» есть один переход. Помнишь, отец легонько подталкивает сына и говорит: «Иди!»? Мальчик выходит из кадра, а в следующем кадре он входит, уже тридцатилетний. Что придумал бы Райзман? Райзман написал бы: «Прошло 20 лет», и все. А я нашел переход. Что лучше, Каздалевский?
Трудно сказать. Можно и так, можно и по — другому. Но в версии Донского меня подкупала ее кинематографичность, выразительность. К тому времени я уже начал ухватывать, что язык кино — это особый язык, не поддающийся описанию, многозначный и емкий. В нем сходятся, сливаются разновеликие элементы: сюжет, игра артистов, место съемки, движение камеры, монтаж, музыка и многое другое.
Когда я увлекался рисованием, я часто проводил время с художниками, наблюдая, как они работают. Более загадочного и мистического процесса, нежели работа живописца, трудно найти. Каждое действие художника, каждый мазок, каждый миг его творчества рождает во мне массу вопросов.
Художник выдавливает на палитру краски (сколько, какие именно?). Перед художником — натянутый холст (какого размера?). Художник выбирает кисточку (какую и почему?), начинает смешивать краски (какие и для чего?). Кладет первый мазок (вверху ли холста, справа ли, внизу?). Вопросы множатся, а ответов нет. Но вот художник объясняет свои действия — почему, что и как, и ты начинаешь понимать. Ну что ж, кажется, теперь всё ясно. Бери палитру в руки и начинай творить. Берешь, смешиваешь краски и…
И вот тут‑то тебе открывается, что есть еще одна тайна, самая глубокая и непостижимая: это тайна творчества. Профессиональные навыки у всех одни и те же. Краски одни и те же, кисти те же. Но почему‑то один художник становится великим, а другой посредственностью. Почему?
Ты можешь слушать лекции, иметь тонкий вкус, быть близким другом Сальвадора Дали или Пикассо, но при этом никогда не подняться на их уровень. Точно так же, как безденежье, голод и отрезанное ухо не могут сделать тебя Ван Гогом.
В любой области художник руководствуется интуицией. Именно интуиция совершает прорыв в неизвестное, нащупывая некую истину. Когда я читаю лермонтовские строки «Выхожу один я на дорогу…», то не могу сдержать слез, горло перехватывает и я не понимаю, что со мной. То же необъяснимое волнение охватывает меня и от поэзии Ахматовой. Сколько бы я ни читал Уитмена, Лермонтова или Ахматову, меня волнуют не слова, а нечто иное, что‑то, что прячется за ними. Меня потрясает тот самый «ржавый веночек», который таится в глубине зрачка и говорит мне о старости, давней любви, запоздавших почестях.
Донской большей частью полагался на свою интуицию. Он не додумывал до конца, а бросался туда, где, ему казалось, заложена скрытая суть вещей.
— У человека есть два локатора, — любил говорить Донской. — Один локатор здесь (Донской ударял себя по лбу), а другой — здесь (его рука ложилась на сердце). Оба эти локатора важны, но художник в первую очередь должен слушать свое сердце. Без эмоций нет фильма. Нужно уметь гневаться и ненавидеть, но и сочувствовать, не стесняясь слез.
Донской относился ко мне как к своему приемному сыну и, когда узнал о смерти моей мамы, бросил все свои дела и приехал на похороны. Этого я не забуду никогда.
В тот год я снимался в фильме «Пароль не нужен» по Юлиану Семенову. Играл разведчика Исаева.
— Ты когда улетаешь? — спросила меня ассистент режиссера.
Мы находились в экспедиции во Владивостоке.
— Почему ты спрашиваешь? — насторожился я.
— Тебе пришла телеграмма.
— Телеграмма? Из больницы?
— Радик, — ассистент понизила голос, — телеграмма лежит у Натана. Только это между нами, ладно?
Я бросился к директору фильма Натану Гофману.
— Ей плохо? — спросил я.
— Кому плохо? — Гофман сделал удивленное лицо. — Вы о чем?
— Я слышал, у вас лежит телеграмма. Мама умирает? Да? Что там написано?
Гофман вздохнул:
— Ах, вы об этой телеграмме? Я вообще‑то точно не знаю…
Он знал точно и определенно: мне следовало лететь в Москву. «Родион, — сообщалось в телеграмме, — мама при смерти. Немедленно вылетайте». Гофман знал телеграмму назубок, но какому директору хочется ломать съемочный график?
То был конец октября 1966 года. Из‑за непогоды самолет задержали сначала в Хабаровске, затем в Свердловске. Так что вместо одиннадцати часов я летел в Москву двое суток.
Небритый, осунувшийся, я бежал по коридорам больницы, еще не зная, застану ли маму живой.
Она была без сознания.
— Мама, — прошептал я, — я прилетел. Я здесь. Слышишь?
Никакого ответа.
— Она слышит вас, — сказала медсестра. — У нее просто не осталось сил…
— Мама… мамочка… все теперь будет хорошо… я с тобой. Слышишь?
Я сжимал пылающую, опухшую руку мамы и не знал, что делать.
Последний год мама жила у меня, на проспекте Мира. Я показывал ее доккторам — светилам, возил к знахарям и целителям, поил серебряной водой, заваривал чай из чаги, давал мумиё и корешки элеутерококка. Но болезнь прогрессировала, и ничто уже не могло ее спасти. Я держал маму за руку, шептал какие‑то слова, приблизившись к бескровному лицу, но мама угасала с каждой секундой. Она уходила от меня.
Я провел у постели мамы четырнадцать часов, боясь пропустить последний миг ее жизни.
— Я сделаю укол, — сказала медсестра, — чтобы она очнулась. Пусть хоть напоследок увидит вас. Вообще‑то нам не разрешают, но…
Медсестра сделала укол.
Через минуту мама разлепила веки.
Скосила взгляд в мою сторону.
Шевельнула губами, стараясь что‑то сказать.
— Мамочка… что?.. Что ты сказала?
Я смог различить лишь два коротких звука, два коротких, одинаковых звука. Что это было? Что она хотела сказать?
И вдруг меня пронзило.
— «Мама»? — переспросил я. — Ты позвала маму? Да?
Уголки ее губ слегка дрогнули.
Дыхание стало прерывистым.
С последним дыханием мама повернула голову ко мне. На лице ее застыл горький, тяжкий и безмерный УКОР!