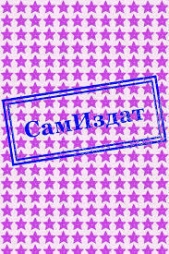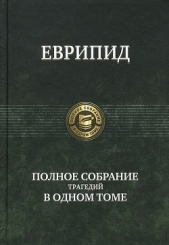Еврипид
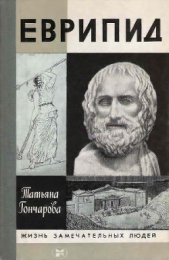
Еврипид читать книгу онлайн
В книге рассказывается о «трагичнейшем из поэтов», как отзывался о нем Аристотель, замечательном древнегреческом драматурге Еврипиде. Острота постановки важнейших философских и нравственных проблем во всемирно известных «Медее», «Троянках», «Финикиянках» и других произведениях укрепила за Еврипидом репутацию «философа сцены».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тот, кто здесь погребен, перешел пределы познанья —
Истину строя небес ведавший Анаксагор.
Следующим был скульптор Фидий, которого еще в 437 году завистники пытались обвинить в том, что из его мастерской на Акрополе расхищается казенная слоновая кость. Однако пока шло судебное разбирательство, жители Элиды упросили афинян отпустить к ним знаменитого мастера под залог, так как они хотели поставить в Олимпии статую Зевса и не видели во всей Греции никого, кто, по их мнению, мог бы справиться с честью с этой задачей. После года, проведенного в Олимпии, где он создал семнадцатиметровую статую Зевса, отделанную золотом, слоновой костью, бронзой, черным деревом и драгоценными камнями — как считается, лучшее его произведение, — Фидий с триумфом возвратился в Афины, и недоброжелателям пришлось умолкнуть. И вот теперь некий Менон обвинил его в том, что он присвоил часть золота, предназначенного для статуи Афины на Акрополе. Однако за честность Фидия поручился сам Перикл и предложил афинянам взвесить истраченное на украшение статуи золото. В свое время он сам посоветовал скульптору так расположить и укрепить это золото, чтобы его можно было снять, если понадобится. С тех пор раз в четыре года со статуи снимали одежду и украшения, проверяя их сохранность, и еще никто ни разу не обнаружил пропажу.
Золото взвесили — и обвинение с Фидия пришлось снять. Однако Менон не успокоился на этом я выдвинул новое обвинение — в святотатстве: Фидий, мол, оскорбил Афину и весь ее народ, изобразив на ее священном щите самого себя в виде плешивого старика, поднимающего камень, а также Перикла, сражавшегося с амазонкой, уподобив его тем самым божеству. Напомнив согражданам о том, что лесть художников и поэтов всегда расчищала дорогу тирании, а здесь еще при жизни, на щите самой богини — это поистине кощунство, достойное самого сурового осуждения. С ним согласились, Фидий был заключен в темницу, где вскоре умер, не дождавшись решения суда, якобы от болезни, но, по всей вероятности, от яда. Менону же было даровано освобождение от всех повинностей.
И наконец, в 432 (или же 430) году был возбужден судебный процесс против Аспасии, жены первого гражданина Афин, которую многие ненавидели из-за того влияния, которое она имела на Перикла, из-за дружбы с нечестивым Анаксагором, из-за ее образованности, а также презирали за то, что она была не афинянка и в прошлом гетера. Комедиографы, издеваясь, называли ее новой Деянирой, женой Геракла, погубившей могучего героя, или Омфалой, лидийской царицей, которой Геракл был продан в рабство и ради которой он взялся за прялку. И вот теперь комический поэт Гермипп выдвинул против Аспасии официальное обвинение в том, что она будто бы занимается сводничеством, сводя со своим мужем Периклом, известным своей безнравственностью, свободных афинянок, совращая замужних женщин. Аспасии припомнили теперь и то, что это в ее доме долгие годы собирались богохульники-философы, и только с большим трудом Периклу удалось вымолить у судей пощаду любимой жене. И великий устроитель Афин не мог не видеть, не понимать, что все эти преследования и наветы на близких ему людей направлены прежде всего против него самого, ему было горько от сознания того, что ему, так много сделавшему для своего народа и своего великого города, все чаще давали понять, что его время подходит к концу. Теперь, когда не было рядом с ним Дамона, Анаксагора и Фидия, когда сникла, как-то сразу постарела после оскорбительного судилища его премудрая Аспасия, одиночество надвигалось на первого гражданина города Паллады, и только опасности и постоянное напряжение военного времени мешали ему осознать всю полноту и горечь проявленной в отношении его близких, а значит, и его самого несправедливости.
Эти расправы, следующие одна за другой, заставили приумолкнуть и многих других, кого еще не сегодня завтра могли с теми же основаниями привлечь к суду за «нечестие», и любители мудрости и науки стали подумывать о том, чтобы покинуть Афины, где, что становилось с каждым годом все очевиднее, за смелость мысли и слова приходилось слишком дорого платить. Эти безобразные процессы еще раз показали излишне уверенному в себе трагическому поэту Еврипиду, что большинство его сограждан не только не собираются чему-либо учиться у философов, софистов и таких их последователей, как он сам, но, напротив, выражают почти единодушное желание, чтобы все они умолкли раз и навсегда, прекратили свои нечестивые беседы, опасные для всех изыскания, и это повергло сына Мнесарха в растерянность и горькое недоумение: неужели такие, как его великий учитель Анаксагор, лишние в городе; неужели же разум, способность постигать закономерности жизни, видеть дальше обычных людей вызывают лишь раздражение и даже ненависть, против которой бессильно почтительное восхищение немногих, тяготеющих к ценностям вечным и непреходящим? Однако какая-то необъяснимая надежда на то, что и его наставники, и он сам будут все-таки поняты согражданами, долго не оставляла поэта. Потому что в силу законов логики так ведь оно и должно было быть — иначе мир бы остановился в своем развитии и род людской не поднялся бы выше тех антропоморфных существ, что населяли в глубокой древности пещеры на склонах гор и собирали моллюсков на морском берегу. Еврипид уже привык к тому, что новое и необычное, как правило, встречает тупое сопротивление невежества, но весь трагизм судьбы неординарного и мыслящего человека, вся горечь страдания изгоняемого и преследуемого за ум открылись ему лишь теперь, когда его шестидесятивосьмилетний учитель был должен тайно, как вор или клятвопреступник, бежать из Афин, пополнив собой печальный перечень тех, кому «кладет предел толпа его сограждан» и «письмена законов не велят так поступать, как хочет их природа». Ему было горько, невыносимо тяжело от сознания того, что то, чем он привык гордиться, чем он даже кичился, было, как видно, почти никому не нужно.
Времена менялись прямо на глазах, и сегодня уже вызывало высокомерное презрение то, чем по достоинству гордились вчера, а именно — образованность, начитанность, приверженность музам, и, теряющий одного за другим учителей, просвещенных собеседников и товарищей своих по трудному поиску истины (Протагор к этому времени тоже покинул Афины), Еврипид с горечью пишет о том, что служение знанию — это, по-видимому, всего лишь большое и горестное заблуждение:
Как прослыл тунеядцем его друг Протагор, которого большинство афинян ничтоже сумняшеся считали просто прихлебателем у богатых столов (хотя сам великий софист, без сомнения, имел достаточно средств для того, чтобы жить независимо и безбедно), а то, что он зарабатывал деньги, не будучи ни купцом, ни ремесленником, ни менялой, ни судовладельцем, внушало еще большее презрение, смешанное с опасением: разве может быть чистым золото, заработанное языком или даже стилосом?!
И невольно возникали сомнения: а может быть, они и правы, те, кто считает ненужными излишние мудрствования, кто ставит вещи реальные, осязаемые, то, что можно измерить и взвесить, купить и продать, выше так называемых вечных ценностей, о которых, в сущности, никто на свете не может сказать совершенно точно, в чем же они состоят?.. И может быть, в жизни самое важное — это уметь хорошо считать, взвешивать и вычислять, хитрить и прикидываться точно таким, каким надо в каждый данный момент; уметь приспосабливаться к бурной, неверной реке жизни и плыть в ее мутном течении, не пытаясь ему воспротивиться, выйти на берег и посмотреть на все со стороны, как оно и подобает разумному человеку — высшему творению природы, кидающему дерзкий вызов самим бессмертным?.. Но смириться с этим, признать это для Еврипида значило отказаться от себя самого, согласиться с тем, что он живет странно, неправильно и неразумно (хоть и мнит себя умней прочих), что он, в сущности, совершенно не понимает смысла жизни и предназначения человека, но в то же время пытается навязать свое ложное толкование мира простым, но более мудрым в этой простоте соотечественникам. Согласиться с этим сын Мнесарха, конечно, не мог, он не мог отказаться от тех идеалов просвещенного и действительно равноправного общества, защитников которых становилось все меньше и меньше в Афинах, и в нем (может быть, даже вопреки ему самому) с каждым днем и с каждым годом поднимался бессильный и темный гнев на сограждан, и если раньше он стремился поднять их до больших высот познания и добродетели, просветить и душевно облагородить, то теперь он был близок к тому, чтобы объявить им войну, непримиримую и беспощадную с обеих сторон войну тому, что тянет людей назад, мешает им стать тем, для чего, и только для этого одного, они созданы, — свободными разумом, щедрыми духом и сострадательными.