Бывшее и несбывшееся
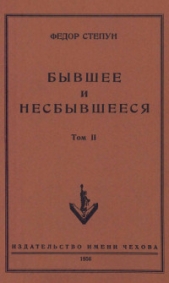
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такого серьезного наступления я не ожидал, но оно было мне на руку. К отбитию лобовой атаки я был более подготовлен, чем к защите себя от того враждебно–недоуменного молчания, которое наступило после моего разговора о Горьком и «Дне» за столом. С поразившей моего дядюшку убежденностью выпалил я все, что мог сказать в защиту независимости искусства от мещанской морали и политического направленства. За Настьку я заступился со всею страстностью молодости: нет, она не обыкновенная .проститутка, она поэт и мечтатель, в России это все понимают. Если бы «Дно» было грязным произведением, моя мать не стала бы нам читать его вслух. А она читала, да еще как! Недаром она в молодости играла с самим Станиславским в любительском спектакле. На чтении присутствовала и моя сестра, такая же шестнадцатилетняя девушка, как Паула.
Перед столь энергичной самозащитой почтенный бургомистр почти что растерялся. Несмотря на докторский титул и звание присяжного поверенного, он как–то не сразу нашел, что мне возразить; думать же ему в мирный послеобеденный час, всем обиходом предназначенный для отдыха, явно не хотелось. Принципиальная сторона вопроса его вообще мало интересовала. Решив, что я чужого поля ягода и что со мною, воспитанным очевидно не вполне нормальной матерью, ничего не поделаешь, дядюшка внезапно переменил тактику. Похвалив за красноречие и посоветовав сменить «бесхлебное искусство» (brotlose Kunst) философа на карьеру присяжного поверенного, для которой я, как он только что имел случай убедиться, был одарен, как немногие, он взял с меня честное слово, что Пауле я своих сумасшедших теорий развивать не буду, и, весело подмигнув, заявил, что вечером мы с ним «уютненько кутнем», чтобы выбить из моей головы выспренние русские идеи.
Ужин, к которому дядюшка слегка принарядился, прошел гладко и легко: очевидно, тетушке уже было известно, что мое поведение за обедом объясняется не столько моей личной порочностью, сколько чрезмерно либеральными взглядами моей русской матери. Поужинав, мы отправились в город. Согласно разработанному дядюшкой плану, нам предстояло посещение четырех ресторанов. Начать обход предполагалось с простой пивнушки, закончить же дорогим винным погребком, выдержанным в старогерманском стиле. Шли мы, как, выйдя из дому, сразу же сообщил мне дядюшка, не просто кутнуть, а кутнуть с высшею, так сказать, целью. Как гоголевский Скзозник–Дмухановский, градоправитель Мемеля считал своею обязанностью время от времени лично удостоверяться — правильно ли свершается течение жизни во вверенном ему городке и не притесняют ли где заезжих гостей. Такое значение бургомистерских прогулок содержатели ресторанов не только хорошо понимали, но, очевидно, и приветствовали. Они подбегали к нам с совершенно невероятным подобострастием и, приняв заказ с почтительно склоненною головою, передавали его кельнерам с головою победоносно поднятою. По ресторанам радостно разносилось: «Fur Herrn Oberburgermeister zwei Pils! Fur Herrn Oberburgermeister eine Flasche Niersteiner und Hummermayonnaise»! [9]) Этот хорошо мне запомнившийся салат из омаров и бутылка рейнвейна в серебряном ведре со льдом были нам поданы в довольно уже поздний час. В резной деревянной нише было темновато. На столе горела низкая лампа под желтым абажуром. Многоопытная в любовных делах кельнерша, не очень молодая, но еще очень красивая, принесла, к моему удивлению, не два стакана, а три и, разлив вино, фамильярно подсела к нам, как имеющая на то право старая знакомая бургомистра. Уже давно находившийся под влиянием винных паров дядюшка смотрел на нее с еле скрываемым вожделением, но и с желанием дать мне почувствовать, что он никогда не перейдет границы… Может быть, сей примерный муж, походивший в тот вечер на кота в благороднейшей визитке, и действительно не преступал той черты, что в его подсознательно–лицемерном сознании твердо отделяла дозволенную неверность от недозволенной, может быть, вспоминая со мною свои незабвенные студенческие годы, он лишь по старой привычке весьма развязно попадал игривою рукою в пышные прелести своей веселой дамы, — не знаю. Знаю лишь то, что от всего этого мне было как–то не по себе и что мое смущение явно раздражало почтенного бургомистра.
Когда я на следующее утро сошел в столовую, я застал за кофейным столом у окна одну только тетушку. Она, казалось, была в самом лучшем расположении духа. Желая окончательно загладить вчерашнюю обеденную неприятность и подчеркнуть, что она совсем не узкая моралистка, тетушка сразу же заговорила о нашем вчерашнем кутеже. Что–то в ее поведении мне не понравилось, и я с жестокою, желторотою прямолинейностью, без всяких обиняков заявил, что я их немецких взглядов на жизнь не понимаю; не понимаю, почему с Паулой нельзя говорить о прекрасном сценическом воплощении вовсе не неприличного образа Настьки, а с кельнершей, тяжело зарабатывающей свой хлеб, можно обращаться совершенно неприлично. При произнесении последних слов урожденную баронессу чуть не хватил удар. Ее лицо мгновенно налилось кровью и нижняя челюсть отвисла, как у Щелкунчика; она гневно ударила кулаком по ручке кресла… и расплакалась.
Дней через пять бургомистр ласково, но твердо посоветовал мне отправиться погостить в имение своих родственников, в котором как раз гостила вместе со своею берлинскою подругою моя замужняя троюродная сестра.
Коренастый пароходик, на котором почти совсем не было пассажиров, медленно подходил к пристани. В заливных лугах низкого берега споро работало несколько конных косилок. Когда, спустив пар, начали причаливать к небольшому серому мостику с двумя скамейками на нем, во внезапно наступившей тишине послышался совсем калужский стук молотилки. На пристани стояла стройная молодая женщина в белом платье с красным шарфом и весело махала мне широкополой соломенной шляпой. Сбежав по сходням, я с неожиданным приливом родственных чувств радостно расцеловался с очаровательною кузиною и, отдав по ее приказанию чемодан какому–то простоватому парню, вопросительно оглянулся: отправляясь в Rittergut [10]), я почему–то ждал, что за мною вышлют по меньшей мере четверню, которая после резвой езды по каким–то еще никогда не виданным местам примчит меня к подъезду барского дома, а может быть и замка.
К моему удивлению, никакого экипажа не оказалось. На мой задорный вопрос: «а где же лошади?», кузина, рассыпавшись звонким смехом, во мгновение ока накинула мне на шею свой длинный шарф, ловко продернула его концы под мышки и, протрубив в кулак военный сигнал «рысью», ударила меня зонтиком по плечу. Невольно подчиняясь ее прихотливо–веселому настроению, я после недолгой, но уже сладостной борьбы выхватил у нее зонтик и мы под руку понеслись к видневшимся невдалеке крышам и деревьям имения. Минут через пятнадцать мы уже были у калитки усадьбы. Над высокой травой, кое–где плешинами выкошенной для скотины, закатными огнями горели окна старого дома; в густом саду пестрели куртины астр, георгин и настурций. От калитки к дому шла совсем русская, запущенная дорожка. Поодаль виднелись развесистые яблони в подпорках. Никаких следов рыцарства: все уютное, милое, простое.
Быстро умывшись и переодевшись в отведенном мне мезонине, обставленном тяжелою, домодельною мебелью красного дерева, украшенном чучелом тетерева и букетами засушенной травы, я в необычайно приподнятом настроении сбежал в зал; одернулся перед одним зеркалом, оправил волосы перед другим и с бьющимся сердцем вышел на террасу, где меня уже ждали к ужину кузина и ее подруга: очень красивая женщина с темными, горячими глазами, с бескровными губами и со слишком холеными от безделья и скуки руками — несчастная и нервная.
В царившем на террасе настроении мне сразу же почувствовалась какая–то чуждая обывательски–помещичьему уюту нота. Беспокойные огни свечей посреди стола, накрытого с недеревенской тщательностью, душно–сладостный запах осенних роз и крепких духов, целая батарея затейливых ликерных бутылок, коробки с модными в то время папиросами Кириаци–фрер, сыры, фрукты, тут же томик стихов графини фон Путткамер, своеобразной предшественницы нашего Вертинского, писавшей под рискованным псевдонимом «Марии Магдалины», все это ничем не напоминало мемельских родственников. В первый же вечер Эльсбет мне рассказала, что между нею и ее родными — война, что она живет в имении вроде как в ссылке, отбывает наказание за измену своему мужу, противному ей человеку, за которого ее, семнадцатилетнюю, насильно выдала замуж мать. Денег муж ей на руки не дает, родители1 же дают гроши, но требуют, чтобы она честно отрабатывала их. Ей поручено самостоятельное ведение молочного хозяйства. Она должна вставать с петухами, чтобы присутствовать при дойке и записывать в толстенную книгу, сколько литров дает Цецилия, сколько Корнелия, сколько Валькирия (более скромных имен у немецких коров почти не бывает). Молочное хозяйство она ведет и даже с успехом, но и за свою свободу борется с ожесточением. У ее подруги деньги пока еще водятся; ликеры, фрукты, закуски — все это она выписывает из города. Живет она в деревне, пытаясь, пока что домашними средствами, привести в порядок свое здоровье, так как ее берлинский «друг» не выносит детей.


























